Перевод с последнего французского издания Н. И. Лихаревой
(постраничная нумерация примечаний в электронной публикации заменена на сквозную по главам)
с.259
Общественная жизнь.
1. Жизнь в Афинах на открытом воздухе.
В некоторые моменты дня, в особенности утром до полудня и вечером до ужина, афиняне отправляются гулять на берега Илисса и кругом города, наслаждаясь необычайной чистотой воздуха и восхитительными видами, открывающимися со всех сторон; но наиболее посещаемым местом в городе была общественная площадь (агора), которая обыкновенно привлекала много народу. Почти всех побуждают идти туда или личные или общественные дела. Многие направляются на агору также с целью развлечься, иные — по обязанностям службы. В известные часы, когда прекращается рыночная толкотня, площадь представляет удобное место для тех, кто хочет любоваться зрелищем толпы или стремится показать себя другим.
Вокруг площади располагаются лавочки парфюмеров, менял, цирюльников и т. д., открытые для всех желающих; там идут шумные обсуждения политических вопросов, анекдотических семейных происшествий, с.260 недостатков и смешных свойств разных лиц. Народ беспрерывно то приливает, то расходится. Собравшиеся группами люди в разговорах как бы мечут тысячи заостренных и ядовитых стрел против тех, кто появляется на прогулке в небрежном костюме или одет с вызывающей пышностью; шутки эти тем убийственнее, что ими этот чрезвычайно насмешливый народ старается замаскировать свою злобу. Иногда под разными портиками, разбросанными по городу, встречаются группы избранных людей, ведущих поучительные разговоры.
Ненасытная жадность афинян к новостям, как следствие живости их ума и праздной жизни, заставляет их искать общения друг с другом. Эта жажда новостей во время войны принимает чудовищные размеры. Разговоры среди публики вертятся тогда на военных передвижениях; при встречах все жадно спрашивают друг друга о разных слухах; повсюду множество людей, напичканных вестями, чертят на земле или на стене план местности, где находится войско, объявляют громко об удачах и по секрету — о поражениях, собирают и раздувают слухи, которые то вызывают в городе неумеренное ликование, то погружают его в самое ужасное отчаяние…
В городе и в окрестностях жители обыкновенно ходят пешком. Люди богатые то передвигаются в колесницах или на носилках, вызывающих порицание и зависть более бедных, то ходят в сопровождении слуги, который несет за ними складной стул, чтобы они могли присесть на общественной площади или когда почувствуют усталость во время прогулки. Мужчины почти всегда появляются на улице с палкой в руках, женщины очень часто ходят с зонтиками. Ночью раб освещает своим господам дорогу разноцветным фонарем.
В первые дни по приезде я охотно пробегал надписи над дверями домов. На одних было написано: «Дом продается, или дом отдается внаймы»; на других: «Это дом такого-то; да не проникнет в него ничего с.261 дурного». Мне дорого обошлось удовлетворение своего любопытства. На главных улицах происходит постоянная толкотня и давка благодаря множеству всадников, повозок, разносчиков воды, глашатаев, нищих, рабочих и прочих людей из народа.
Однажды я с Диогеном смотрел маленьких собачек, обученных разным штукам, как вдруг рабочий, несший громадное бревно, сильно ударил им Диогена и закричал ему: «Берегись!» Диоген ответил ему сейчас же: «Разве ты хочешь ударить меня вторично?».
Если, выходя на улицу ночью, вы не берете с собой нескольких слуг, то вы рискуете быть ограбленным ворами, несмотря на бдительность общественных властей, обязанных совершать каждую ночь обходы города.
(Barthélemy. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, гл. XX).
2. Уличные типы.
Среди терракотовых статуэток, найденных в Малой Азии, многие воспроизводят типы людей, которые чаще всего встречались на улице.
«Вот раб-повар с бритой головой и лицом без всякой растительности; в одной руке он держит блюдо, вероятно, предназначенное на обед его господам, другую руку подносит ко рту, как бы поедая что-то с жадностью. Другие повара возвращаются с рынка, держа в руках молодых кроликов и корзины винограда. Три статуэтки напоминают о невинных удовольствиях уженья рыбы. Во-первых, изображен ворчливого вида старик; он опирается на высокую палку и держит в руке сплетенную из тростника корзину, в которую кладут рыбу; он выискивает, конечно, удобное для рыбной ловли местечко. Затем мы видим второго рыбака: в плохонькой шапчонке без полей, с тесно сдвинутыми ногами и с вытянутой правой рукой, он весь поглощен созерцанием своего поплавка. Наконец, третий, приподняв левую ногу и запрокинув голову, по-видимому, вытаскивает порывистым движением удочку: рыба клюнула, с.262 и, если судить по комическим усилиям рыболова, добыча богатая. Вот идущий в город крестьянин: дорога длинна и пыльна, солнце палит, поэтому путник делает частые остановки и садится, чтобы подкрепить силы и набраться бодрости из тыквенной бутылки, которую он предусмотрительно взял с собой.
Подымемся ступенью выше. Вот разбогатевший горожанин, прогуливающийся по улицам с презрительной усмешкой на губах. Плащ на нем лежит по всем правилам хорошего тона; он смотрит свысока на чернь и имеет очень забавный вид греческого Прюдомма1.
Вот карикатура на ярмарочного торговца: он одет только в нижнее белье и держит, оперши о свой живот, широкую корзину, от которой сохранились, впрочем, на статуэтке лишь остатки; корпус у него запрокинут назад, грудь расширена, голова задрана кверху, рот открыт: он выкрикивает свой товар. Вот гуляющий ребенок, заботливо закутанный в плащ, с шапочкой на голове; его держит за руку старая, сгорбленная нянька. Вот девочка, идущая с матерью; она двигается несколько позади и, подняв лицо кверху, засыпает мать вопросами; чтобы не потеряться, она держится за подол материнского платья и тащится как на буксире. Вот еще статуэтка, изображающая школьника, который возвращается домой: он почти заснул на плече у раба, взявшего его на руки и освещающего путь фонарем».
(Pottier. Les Statuettes de terre cuite dans l’antiquité, стр. 169—
3. Черты греческих нравов.
Болтун. — «Болтун, сидя рядом с незнакомым человеком, примется расхваливать свою собственную жену, расскажет сон, который он видел в предшествующую ночь, и сообщит подробное меню съеденного с.263 им обеда. Затем он прибавит, что нынешние люди не годятся в подметки жившим в старину, что хлеб снова подорожал, что море открыто для плавания с праздника Дионисий, что если еще пройдет дождь, то урожай будет лучше, что в будущем году он примется за обработку своей земли, и что жить вообще очень трудно».
Скупой. — «Скряга сам ходит собирать у своих должников проценты за месяц, будь это хоть пол-обола (3 коп.). Он высчитывает во время трапезы, сколько кубков выпивает каждый собутыльник. Если раб разобьет горшок или блюдо, он стремится возместить ценность их экономией в еде. Если жена его потеряет трихалк (около 2 коп.), передвигается вся мебель, кровати, сундуки, и перевертываются все покрывала. Он не позволяет сорвать фигу в своем саду, перейти через свое поле, подобрать упавшую с дерева маслину. Каждый день он проверяет, на месте ли границы его владений. Он не позволяет своей жене одолжить кому-нибудь соли, светильни для лампы, тмину, душицы, ячменя, венков, говоря, что из всех этих мелочей за год выйдет крупная сумма. Он носит плащ, доходящий только до бедер; натирается маслом из крохотного флакончика; стрижет голову догола и разувается средь бела дня»…
Нахал. — «Покупая в самый разгар торговли орехи, мирты, каштаны, он поедает их и заводит в то же время разговор с продавцом. Он позовет по имени какого-нибудь прохожего, не будучи даже знаком с ним; если увидит спешащего куда-нибудь человека, то попросит подождать его. Если ему на глаза попадется человек, только что проигравший на суде крупный процесс, он подойдет к нему и поздравит его. Он остановится около мастерской парикмахера или лавочки косметических принадлежностей и заявит, что желает хорошенько напиться. Если он пойдет с матерью к прорицателю, то будет лишь кощунствовать. Во время молитвы или возлияния он нарочно уронит вазу и примется хохотать, будто тут есть что-то удивительное. Он то станет аплодировать флейтистке в такой момент, когда все соблюдают с.264 тишину, то — напевать вполголоса исполняемую арию или просить, чтобы ее поскорее окончили. А когда он отплевывается, то плюнет прямо через стол в виночерпия».
Франт. — «Он часто стрижется, заботится о белизне своих зубов, всегда имеет прекрасные плащи и сильно надушен. На агоре он держится около банкирских контор и постоянно посещает гимназии эфебов; в театре во время представлений садится около стратегов. Для себя он не покупает сам ничего, но посылает своим друзьям прекрасные подарки: в Кизик — лаконских собак, в Родос — гиметский мед, и старается распустить об этом слух по городу. Он держит обезьян, которых умеет обучать, имеет сицилийских голубей, бабки из костей серны, флакончики для благовоний из Туриума, крученые палки из Лаконии, персидские обои с фигурами; у него есть даже помещение для игры в мяч и маленькая палестра с необходимым количеством пыли. Если, прогуливаясь по городу, он встречает философов, софистов, учителей фехтования или музыкантов, то предлагает им свой дом для упражнений в их искусстве»…
Гордец. — «Если кто-нибудь хочет поговорить с ним, он, не останавливаясь, замечает, что застать его можно дома после обеда. Если народ выбирает его должностным лицом, он отказывается, клянясь, что у него нет времени для общественных дел. Он никогда не подойдет к кому-нибудь первым. Если приходится обратиться к нему за делом, он назначит свидание на рассвете. На улице он не вступает с прохожими в разговоры и ходит с опущенной головой. Когда он приглашает друзей на обед, то не садится с ними, а поручает кому-нибудь из своих подчиненных занимать их. Если он идет в гости, то посылает предупредить об этом».
(Феофраст. Характеры, гл. 3, 10, 11, 12, 21, 24).
с.265
4. Общительность афинян.
Грек был общителен от природы, и дружба казалась ему драгоценным достоянием. В одной грациозной песенке, распеваемой на пирах (так называемой сколии), перечисляются условия, при которых смертный может считаться счастливым: на первом месте ставится здоровье, на втором — красота, на третьем — честно приобретенное богатство, наконец, на четвертом — дружба, которую в юности питают к людям своего возраста. Вероятно, это определение счастья принадлежит афинянам, настолько оно согласуется с их понятиями и нравами. Действительно, в Афинах более, чем где-либо, ценили дружбу и старались развивать ее. Без нее — нет удовольствия: она придает очарование жизни и украшает последнюю.
Вспоминается нарисованная Аристофаном картина сельских радостей среди мирной и полной изобилия обстановки: «Может ли быть что-либо приятнее, когда, любуясь засеянной нивой, которой бог посылает орошение, говоришь своему соседу: “Эй, Комархид, что бы нам сделать сейчас хорошего? Не выпить ли, раз боги даруют нам свою благосклонность?”».
Дружба, доставляющая наслаждение во всяком возрасте, была распространена даже среди детей и служила для них источником живых удовольствий. Особенно часто нежные дружеские отношения, продолжавшиеся за пределы юношеского возраста, завязывались между детьми в то время, когда они были у педотриба2; позднее, когда юноши делались эфебами3, они любили запечатлевать свои дружеские чувства, начертывая на мраморе эпитеты, которые они давали друг другу.
Сократ, глядя на дружбу двух молодых людей, Менексена и Лизия, сделал добродушное признание: «С детства я стремился к одному благу, так как все люди с.266 желают для себя блага, понимая его каждый по-своему: один желает лошадей, другой — собак; этот — богатства, тот — почестей. Что касается меня, то я совершенно равнодушен ко всем этим вещам, но я очень горячо желаю приобрести друзей, и я скорее предпочел бы иметь доброго друга, чем лучшего перепела или самого лучшего на свете петуха, клянусь Зевсом! и более того, друг мне приятнее прекрасной лошади и прекрасной собаки. И клянусь собакой! я думаю, что мне больше хотелось бы иметь друга, чем сокровища Дария и самого Дария на придачу, так страстно я жажду дружбы. Поэтому, когда я вижу тебя и Лизия, я проникаюсь удивлением по поводу вашего счастья: как это, будучи столь молодыми, вы оказались способными приобресть с такою легкостью и быстротою подобное сокровище».
(P. Girard. L’ Éducation athénienne, стр. 261—
5. Приглашение.
Сократ рассказывает следующее: «Вчера я отправился с Главконом в Пирей с целью помолиться богине Бендис и посмотреть, как будет устроено торжество, празднуемое в первый раз. Процессия мне очень понравилась… Когда мы совершили нашу молитву и посмотрели на церемонию, мы двинулись обратно в город. Полемарх, сын Кефала, заметив нас издали, приказал сопровождавшему его рабу побежать за нами и попросить подождать их. Раб догнал нас и, дернув меня за плащ, сказал: “Полемарх просит вас подождать его”. — Я обернулся и спросил, где же его господин. “Он, — ответил раб, — идет сзади; подождите его минутку”. — “Хорошо, подождем”, ответил Главкон.
Немного погодя, мы увидали Полемарха с Адимантием, братом Главкона, и Никерата, сына Никия, которые возвращались с церемонии. Полемарх, догнав нас, сказал мне: “Сократ, вы, кажется, возвращаетесь в город? — Ты не ошибся, — ответил я ему. — Ты видишь, сколько нас? — Да. — Так пересильте нас или останьтесь здесь. — Есть с.267 еще один исход: убедить вас, что нас следует отпустить. — Как же вы нас убедите, если мы не хотим слушать ваших доводов? — Верно, — сказал Главкон, — тогда это невозможно. — Ну, так знайте же, — сказал Полемарх, — что вас никто не слушает. — Разве вы не знаете, — заметил Адимант, — что сегодня в честь богини будет шествие со светильниками на конях, а кроме того устраивается ночное бдение, которое стоит посмотреть? Мы пойдем туда после ужина и побеседуем там с разными молодыми людьми, которые явятся на зрелище. — Очевидно, придется остаться, — сказал Главкон. — Если ты хочешь этого, — прибавил я, — то мы останемся”.
Тогда мы пошли в дом Полемарха, где застали двух его братьев, Лизия и Эвтидема, а также Тразимаха Халкидонского, Хармантида и Клитофона; был там и Кефал, отец Полемарха. Я не виделся с ним уже очень давно, и мне показалось, что он сильно постарел. Он сидел, опершись на подушку; на голове его был венок, потому что в этот день он совершал жертвоприношение домашним богам. Мы сели на расположенные кругом него седалища. Как только Кефал увидел нас, он приветствовал меня и сказал: “Сократ, ты очень редко бываешь в Пирее, а нам твои посещения доставляют большое удовольствие. Если бы я был еще в состоянии ходить в город, ты был бы избавлен от труда являться к нам, потому что я сам сумел бы найти тебя. Но теперь ты должен почаще приходить сюда, так как да будет тебе известно, что по мере утраты физических удовольствий я более, чем когда-либо, нахожу наслаждение в беседах. Сделай же для меня это одолжение. Ты можешь также поговорить и с этими молодыми людьми, но не забывай горячо преданного тебе друга”».
(Платон. Республика, кн. I).
6. Сообщества.
Среди афинян были распространены совершенно частные кружки, члены которых должны были иметь добрые с.268 товарищеские отношения и оказывать друг другу взаимные услуги. Одна речь Лизия дает нам некоторые сведения об этом. Из нее явствует, что члены этих сообщества имели обыкновение поддерживать друг друга на суде; каждый из них охотно свидетельствовал в пользу своих сотоварищей и защищал их. Если кто-нибудь испытывал нужду в деньгах, то обращался преимущественно к членам своего кружка, хотя, кажется, при случае не считал предосудительным и обмануть их.
«Вы заставили меня», говорит один из членов такого кружка, «дать взаймы Поликлету 12 мин (около 445 руб.), при условии, что я возьму под залог его лошадь. Поликлет привел мне лошадь, которая во время войны была разбита на ноги. Я решительно заявил, чтобы он взял ее обратно; но Диодор уговорил меня принять ее, уверяя, что, если лошадь падет, Поликлет возвратит мне мои 12 мин без всяких возражений. Но, когда лошадь в самом деле пала, тот же самый Диодор стал на сторону моих противников и доказывает теперь, что я не имею права требовать денег». (Лизий, VIII речь, 10).
Когда член сообщества вызывал чье-нибудь неудовольствие своим поведением, на него можно было жаловаться в общем собрании, и речь Лизия как раз и была произнесена при подобных обстоятельствах. Надо отметить, что каждый член имел право когда угодно выйти из сообщества.
7. Общества взаимопомощи.
Эти общества по своей благотворительной организации и религиозному характеру можно было бы принять за совершенно современные учреждения. Каждое общество имело общую кассу, пополнявшуюся двумя источниками доходов: прежде всего, добровольными вкладами, затем — членскими взносами, называемыми ἔρανος. Тот, кто отказывался от уплаты этого взноса, исключался из общества, если у него не было смягчающих обстоятельств, как, например, денежных затруднений или болезни. Члены общества, или с.269 эранисты, устраивали совместно некоторые празднества, собирались для жертвоприношений и для пиршеств; в то же время они оказывали друг другу взаимную поддержку.
Если член общества подвергался каким-нибудь несчастиям имущественного характера, он получал от сотоварищей4 помощь с обязательством возвратить долг, когда условия его жизни сделаются более благоприятными. Общества эти устраивали собрания и выносили постановления, которые записывались на каменных плитах, стоящих в святилище: это был их архив.
Собрания были закрытыми: никто посторонний не пользовался правом входа на них. Там должен был царствовать самый строгий порядок; устав воспрещал производить шум; нарушителей устава подвергали или денежным штрафам или телесным наказаниям. Во главе общества находилось известное число должностных лиц, избираемых большей частью по жребию. Главнейшими из них были: председатель, затем, так называемый археранист, наблюдавший за финансовым управлением, секретарь, казначей, старшины, комиссары, жертвоприносители, глашатай, жрица, управлявшая женским отделением общества.
Когда эти должностные лица выходили в отставку, добросовестно выполнив свои обязанности, наградой им служили почести, какими окружали их благодарные сочлены. Эти общества почти всегда носили названия по именам чтимых ими богов.
(Wescher. Revue archéol.; nouv. série, т. X, стр. 460—
8. Некоторые греческие игры.
1. Игра в пять камешков.
«Для этой игры, — говорит Поллукс5, — бралось пять с.270 маленьких камешков (λιθίδια), кубиков (ψῆφοι) или маленьких бабок (ἀστράγαλοι). Их подбрасывали и старались поймать на верхнюю часть кисти руки. Если не удавалось поймать всех их, остальные нужно было подбирать с земли пальцами». Это совершенно соответствует современной игре в камешки.
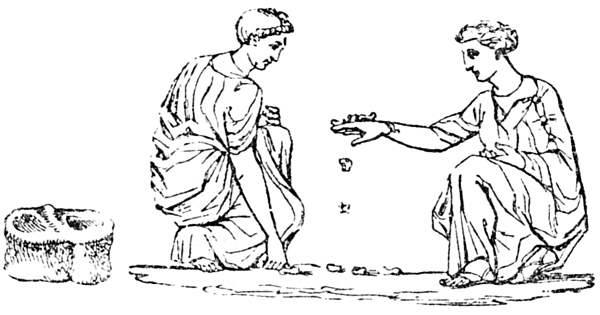
Игра в бабки. |
На одной картине в Неаполитанском музее изображены пять богинь, из которых две — Аглая и Гилеэра, находящиеся на переднем плане, играют в эту игру. Три бабки лежат на земле; одна, четвертая, — под большим пальцем Аглаи, а пятая закрыта, несомненно, ее одеяниями или находится в ее левой руке. Очередь играть за Гилеэрой. Она подбросила свои пять бабок, поймала из них три на верхнюю часть кисти руки, а две упали на землю.
2. Игра в жмурки.
Поллукс описывает несколько однородных игр, называя их игрой в слепого; все они имеют одну общую черту, состоящую в том, что один из играющих должен был непременно зажмуривать глаза. Но все эти игры подходят под ту современную игру, которая называется жмурками. Их было три.
1. «Один из играющих, став с закрытыми глазами, кричит: “Берегись!” и бросается вдогонку за убегающими. Тот, кого он поймает, занимает его место и — в свою очередь зажмуривает глаза».
2. «Один из играющих зажмуривает глаза, а остальные прячутся. “Слепой” ищет их, пока ему не удастся найти кого-нибудь».
3. «Требуется, чтобы “слепой” или дотронулся до одного из своих сотоварищей, или указал на него и, догадавшись, кто это, назвал его по имени». (Pollux, IX, 113).
3. Игра в мяч.
«Играющие разделяются на два лагеря, — говорит с.271 Поллукс; — посредине проводят осколком камня черту и на нее кладут мяч. Позади каждого лагеря проводят две других черты. Схвативший мяч бросает его через головы игроков противного лагеря, которые стремятся поймать его и кинуть обратно. Игра продолжается до тех пор, пока одной из партий не удастся отбросить другую за дальнюю черту».
Евстафий6 добавляет несколько подробностей. Сначала играющие затевают настоящую борьбу; оба лагеря, находящиеся, вероятно, вначале на задних чертах, бросаются к лежащему в центре мячу. Тот, кто сумел схватить мяч, бросает его затем изо всех сил, а противная партия в свою очередь старается отбросить его назад. Играющие пользовались для этого всеми средствами: они ударяли мяч на лету или ловили его и снова бросали рукой; а если он катился по земле, то ударом ноги отбивали его обратно. Каждая партия двигалась то вперед, то назад, в зависимости от движений мяча, пока какая-нибудь из сторон не переходила крайней черты.
Эта игра требовала одновременно и ловкости и силы. Перед игрой участвующие в ней натирались маслом, чтобы придать членам бо́льшую гибкость и удобнее выскальзывать из рук своих противников.
Разновидностью игры в мяч была так называемая фенинда. Тут лагерь, который должен был бросать мяч с определенного места, стремился забросить его как можно дальше от этого пункта; противный лагерь, наоборот, отбивает его так, чтобы он упал возможно ближе к месту своего первоначального нахождения. Если брошенный мяч не был отбит до падения на землю или после первого удара его о землю, игра приостанавливалась; отмечалось то место, куда упал мяч, и лагери играющих менялись местами. Теперь с того же места бросал мяч противный лагерь, стараясь, чтобы он упал дальше отмеченного места.
с.272 Таким образом, в первой игре предельные границы были определены и известны заранее; в фенинде же они менялись в зависимости от ударов противников.
4. Игра в кости.
Греки очень любили игру в кости. По словам Феопомпа7, фессалийцы большую часть времени проводили за игрой в кости и за выпивкой. Это увлечение разделялось и спартанцами. В Афинах игра получила такое распространение, что два комических поэта вывели игроков в кости на сцене. Игорные дома встречались там, несмотря на строгие запрещения законов, на каждом шагу. Игроки прятались, уходили за город. Евстафий утверждает, что они находили убежище даже в храмах, особенно в храме Афины Скирады. «Потому-то, — прибавляет он, — игорные дома и стали называться скирафиями».
Игральные кости (κύβος) изготовлялись из слоновой и простой кости, из дерева, золота или из драгоценного материала и были очень похожи на современные. На каждой из шести сторон кубика по белому полю делались углубления, которые окрашивались в черный цвет. Эти углубления были расположены, как и на наших костях: одно очко — в центре, два и три — по диагональной линии, четыре и шесть — по двум параллельным линиям, а пять — по перекрещивающимся диагоналям. Сначала кости бросали рукой, впоследствии для этой цели стали пользоваться особым стаканчиком. Их бросали и на землю и на другие поверхности. Игра велась по желанию — одной, двумя или тремя костями. Удар, которым выбрасывались сразу три шестерки, назывался «самым счастливым ударом».
5. Игра в бабки.
Бабки у греков носили название астрагалов. Обыкновенно пользовались натуральными бабками, но часто их выделывали искусственно из слоновой кости, бронзы и золота. Форма их была такова, что они не могли при с.273 падении лечь на два крайних конца; поэтому в счет шли только четыре стороны, а не шесть, как в предыдущей игре. Хотя на сторонах и не было обозначено количество очков, однако каждая из них имела определенное численное значение: 1, 3, 4 и 6. Сторона, получившая значение одного очка, называлась собакой или Хиосом; противоположная сторона, означавшая 6, носила наименование Коса. Бабки бросались или рукой или из стаканчика.
Игры в бабки и в кости были азартными. Игра велась четырьмя бабками. Насчитывалось 35 комбинаций, которые могли произойти при ударах, а поэтому последние делились на счастливые, несчастливые и посредственные. Каждый удар имел свое особое название. Например, если все бабки падали на различные стороны, то это называлось «ударом Афродиты»; он считался самым удачным, тогда как худшим был тот удар, при котором бабки давали четыре стороны с одним очком.
(Becq de Fouquières. Les jeux des anciens, стр. 51, 84, 185—
9. Коттаб.
Эта игра, заимствованная из Сицилии, сделалась необходимой принадлежностью каждого пира. Ею занимались во время той части пиршества, которая носила название симпосиона8. Коттаб состоял в следующем: пирующий, выпивая свой кубок, оставлял всегда на дне немного вина; затем, придерживая кубок одним пальцем, просунутым в отверстие ручки, он делал рукой движение, как при метании пращи; вино выплескивалось со дна кубка и попадало или в противоположную стену пиршеской залы или в определенную цель. В это время задумывали или произносили громко имя любимой особы и следили, насколько точно жидкость попадала в намеченную цель, или какова была сила звука, производимого при с.274 падении вина; в зависимости от этого играющий надеялся узнать, платят ли ему взаимностью или он должен рассчитывать только на равнодушие.
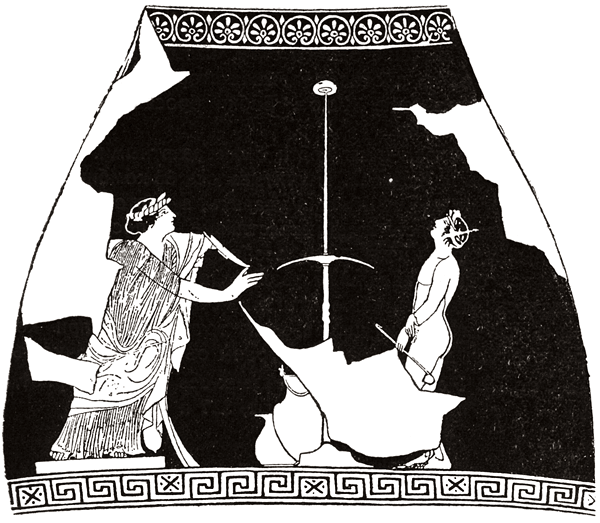
Игра в коттаб. |
Из такого первоначального способа игры воображение пьющих создало сотни различных комбинаций. Выбирался распорядитель коттаба, царь; устраивалось своего рода состязание, где были и победители и призы, даже ставки и штрафы. Вино выплескивали в такт звукам флейты. Мишенью иногда служили весы, на чашки которых надо было попасть вином и таким образом раскачать их; иногда же воздвигалось целое сооружение из разных предметов с таким расчетом, что, когда один из них падал под ударом жидкости, то вызывал падение и ряда других.
Коттаб сделался модной игрой, и им очень с.275 увлекались в течение целого столетия Афины, Коринф, Фивы и все города, которые любили удовольствия и кичились своим изяществом. Ни один хорошо устроенный пир не обходился без этой игры; для нее стремились заводить самые дорогие и красивые кубки, а еще более роскошные чаши служили наградой победителям.
(Rayet et Collignon. Hist. de la céram. grecque, стр. 161—
10. Петушиные бои.
Греки страстно любили этот вид развлечений. И юноши и взрослые мужчины всех возрастов воспитывали и обучали петухов для боев. Танагрские и родосские петухи, считавшиеся самыми воинственными, ценились особенно высоко; за ними шли мелосские и халкидские. Для возбуждения в них воинственного пыла их кормили чесноком и луком.
Во время борьбы их ставили друг против друга на особом столе или на платформе с возвышенными краями, а на шпоры им надевали бронзовые наконечники. По постановлению закона в Афинах ежегодно устраивались в театре петушиные бои; молодые люди должны были присутствовать при этом зрелище, чтобы учиться на примере этих птиц вести борьбу до последней крайности. Воспоминание об этом установлении запечатлено на одной афинской монете (тетрадрахме) изображением петуха с пальмой. Подобные символы встречаются и на монетах других городов, как Дарданы Троадской, Кариста на о. Эвбее, Антиохии Писидийской, Клазомен, Галатии, Калеса и Неаполя.
Иногда устраивали еще сражения перепелов; греки питали не меньшую страсть и к этим птицам, которые не уступали в воинственном пыле петухам. Были люди, создавшие себе специальное занятие из ловли, вскармливания и обучения перепелов бою. Для птичьих боев употребляли также куропаток. Призом победителя была с.276 или побежденная птица или деньги; ставки часто были очень высоки и даже разорительны для проигравшего.
(Saglio. Dict. des antiquités, т. I, стр. 180—
11. Танцы.
Танцы занимали у греков очень важное место среди других искусств. Эллинов приводили в восторг ритмические, стройные и выразительные движения. И лирика, и затем драма, стремясь придать себе больше блеска, ввели в свой обиход танцы. Атеней (XIV, стр. 629) и Лукиан — («О танцах») знакомят нас со множеством традиционных танцев. Их было несколько видов: одни исполнялись отдельными танцорами, другие — целыми хорами; одни были печальными, другие — веселыми; одни — мирными, другие — воинственными. Кроме танцев в собственном смысле этого слова, были в ходу еще марши, которые иногда очень напоминали танцы. Можно было бы сделать бесконечное перечисление всякого рода ритмических движений, применявшихся греками.
Греки предъявляли к этим танцам два требования: во-первых, они должны были отличаться красотой пластики, во-вторых — ясно выражать различные чувства и известные мысли.
Пластическая красота танца воплощалась прежде всего в каждом танцоре, взятом в отдельности. «Есть танцы, — говорит Платон, — имеющие в виду по преимуществу самое тело; они служат развитию силы, гибкости, красоты; они учат каждый член сгибаться и расправляться, в легких, грациозных движениях послушно выполнять всякие фигуры и принимать всякие положения, какие только можно требовать». Это был вид гимнастики, но гимнастики ритмической, в такт музыке.
Развитие телесной красоты являлось главной целью не только некоторых отдельных танцев, но можно сказать, что это само собой разумелось по отношению ко с.277 всем танцам. Греческие писатели говорят об этом совершенно определенно. Танцор не должен быть ни слишком высоким ни слишком низким, ни толстым ни худым; необходимо было, чтобы движения его отличались красотой и правильностью; если он взмахивал руками, то в этот момент должен был напоминать ловкостью и силой Гермеса, Геркулеса или Поллукса, занимающихся кулачным боем.
В хоровых лирических танцах к красоте каждого отдельного танцора присоединялась прелесть движений хора, который развертывался то в прямые, то в волнистые линии, то в параллельные и встречные, причем эти движения устраивались и разнообразились на тысячи ладов; иногда хор состоял наполовину из юношей, наполовину из девушек; группы их переплетались, стройно и в такт исполняя простые и сложные фигуры.
Лукиан дает красивое описание двух таких хоровых танцев. Эти танцы — спартанские, т. е. дорические по преимуществу; кроме того, они носят характер лирических, потому что речь идет об аккомпанементе пения. Один из этих танцев исполнялся только юношами. Он начинался борьбой, которая постепенно переходила в танцы. «Флейтист садится тогда среди хора и играет, ударяя ногой о пол. Танцоры двигаются рядами и танцуют в такт; они выполняют самые разнообразные фигуры, которые сначала носят воинственный характер, но, — впрочем, вскоре изменяются под влиянием Диониса и Афродиты». — Другой танец носил название «ожерелья». Хор составлялся пополам из эфебов и из девушек. «Все танцоры, — говорит Лукиан, — следуют друг за другом вереницей, как бы образовывая ожерелье; один из юношей ведет танец, причем принимает воинственные позы, вроде тех, какие он должен был бы иметь на войне; одна девушка грациозно следует за ним, подавая пример своим подругам; таким образом, ожерелье сплетается из девической скромности и мужской силы».
с.278 Танец должен отличаться не только красотой, но и выразительностью. Он, согласно словам Платона, «подражает речам Музы». Аристотель говорит о танцах почти в тех же выражениях: «Они в ритмических движениях выражают переживания, страсти, действия». «Танец, — говорит Лукиан, — есть подражательное искусство, которое как бы дает воплощение нашим идеям, служит их выражением и придает видимую форму невидимым мыслям».
Что надо разуметь под этим? Идет ли здесь речь о пантомиме, т. е. о точном воспроизведении движений, которые соответствуют известным, выраженным словами положениям, или же говорится о подражании более общего характера?
Несомненно, что танец очень часто носил чисто подражательный характер в самом точном значении этого слова. Например, танцоры изображали подобие битвы: они совершали в такт все движения, какие имеют место в сражении: делали вид, что мечут стрелы или уклоняются от них, бросают копье и отражают удар; они бежали вперед, отступали, нагибались, падали на землю, как бы раненые или убитые, быстро подымались и меняли фронт.
В сочинении Ксенофонта «Пир» два лица — юноша и девушка — изображают в танце свадьбу Диониса и Ариадны. Они танцуют и поют под звуки флейты. Своими позами, движениями, жестами они воспроизводят всю сцену; это настоящая маленькая драма, разыгрываемая перед пирующими.
Подражание в танце может быть и иного рода. Медленность или быстрота движений танца, более или менее строгая гармоничность их могут просто пробудить в душе чувства, соответствующие общему характеру этих движений. В таком смысле это также подражание: спокойный, благородный танец как бы подражает нравственной красоте, благородству, спокойствию не смущаемой страстями души. Наоборот, чересчур разнообразные с.279 движения, быстро сменяющие друг друга, служат выражением величайшей радости или сильных страстей, какова бы ни была, впрочем, сущность и этих страстей и этой радости.
Но даже и в вышеописанных танцах подражание заключается не только в отдельных жестах, с помощью которых танцоры изображают действие во всей его реальности, заставляя его как бы оживать перед глазами зрителей; оно зависит еще — и, пожалуй, в гораздо большей степени — от общего характера этих движений и от печальных или веселых, нежных или страстных чувств, которые они вызывают в душе зрителя своей особой гармоничностью, независимо от всякого специального отношения их к тому или иному частному событию.
Среди бесконечного разнообразия греческих танцев можно выделить небольшое число основных типов, к которым примыкали все второстепенные разновидности их. Одни танцы носили важный, спокойный, религиозный характер; другие — живой и веселый; были, наконец, танцы страстные, стремительные, увлекающие.
В драме эти три основных типа находили воплощение в эммелии, кордаке и сикинниде. В лирических представлениях в собственном значении этого слова они назывались гимнопедией, гипорхемой и пиррихой.
Эммелия — это танец хора в трагедии, дышавший благородством и достоинством; спартанская гимнопедия была, несомненно, лишь разновидностью эммелии. Кордак исполнялся хором в комедии и своим живым и легким темпом напоминал гипорхему; но часто в этот танец, в зависимости от общего духа греческой комедии, вносился оттенок известной вольности, тогда как в гипорхеме ничего подобного не было.
Равным образом, пирриха и сикиннида походили друг на друга захватывающей стремительностью движений; но первая была чисто воинственным танцем и возбуждала лишь с.280 гордые страсти; вторая же, исполняемая хором в сатирической драме, выражала часто опьянение совсем другого рода.
(A. Croiset. La Poésie de Pindare, стр. 65—
12. Вокальная и инструментальная музыка.
Греческая музыка разделялась, как и наша, на вокальную и инструментальную.
Голоса разбивались на мужские и женские, а каждый из этих двух видов в свою очередь подразделялся на разряды: высокие, низкие и средние голоса.

Кифаристка. |
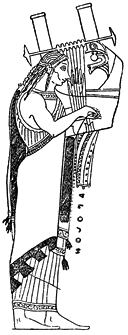
Аполлон-кифаред (древнее изображение). |
Инструменты, какими пользовались греки, наоборот, резко отличались от наших. С точки зрения тембра и силы звука они были необычайно просты и бесцветны. Если оставить в стороне, во-первых, ударные инструменты, употребление которых допускалось только в редких случаях, во-вторых, медные инструменты, предназначавшиеся для войска, наконец, пневматические или гидравлические орга́ны9, сравнительно позднего происхождения, то в V веке в Греции можно видеть в употреблении с.281 только два рода инструментов: прежде всего струнные — типа кифары, и духовые — типа флейты.
Кифара была одним из наиболее бедных и наименее выразительных инструментов, какие только можно вообразить себе. Ее сравнивают с арфой без педали. Она звучала сухо, монотонно и слабо, и, играя на ней, нельзя было ни усилить, ни ослабить звуков, а также ни задержать, ни ускорить ноты. Одним словом, она была лишена и разнообразия, и движения, и звуковой силы. Что же ей оставалось? Одно, но основное, по мнению греков, свойство: определенная и строгая чистота звука и какая-то совершенно мужественная ясность.
Греки не требовали от своей кифары ни блестящего и страстного воспроизведения наслаждений, борьбы, страданий, наполняющих жизнь, ни изменчивого отражения тех мечтаний, в которые нас погружают иногда наши радости и печали; они желали ясных и простых впечатлений, являющихся как бы эхом того Олимпа, где царствовало вечное блаженство. Платон изгнал из своей воображаемой республики10 слишком богатые звуками и выразительные инструменты, но кифару оставил. Это был инструмент национальный по преимуществу.
Флейта обладала бо́льшим блеском, разнообразием и гибкостью, более приятными звуками. Ею главным образом пользовались солисты-виртуозы, потому что без аккомпанемента она одна звучала красивее, чем кифара. В соединении с кифарой она лучше поддерживала голоса хора, сливалась с ними, а в случае необходимости — затушевывала даже их легкие недостатки. Ею пользовались как необходимой с.282 принадлежностью блестящих празднеств; обыкновенно она служила аккомпанементом любовным и страстным песням. Однако не надо впадать в заблуждение. Сама по себе флейта, которая, как казалось Платону, отличалась такой выразительностью, на самом деле обладала указанным свойством только по сравнению с кифарой. Таким образом, эта возбуждающая страсти флейта представляла собой ни более ни менее, как кларнет с меньшим количеством высоких нот, чем у современного. Впоследствии стали делать флейты с более сильными звуками, которые могли соперничать с настоящими трубами; Гораций11 сообщает, что в его время флейты обкладывали внутри медью. Но древняя флейта служила лишь для того, чтобы направлять и поддерживать пение хоров.

Флейта. |
Переходя от музыкальных инструментов к самой музыке, мы должны отметить не менее поразительную разницу между искусством древних греков и современных народов.
Прежде всего в греческой музыке почти не применялась гармония. Это не значит, что греки не знали и даже не пользовались на практике аккордами; некоторые аккорды они знали и употребляли. Но эта гармония отличалась крайней ограниченностью и упрощенностью. Она слегка проявлялась в аккомпанементе и совершенно отсутствовала в самом пении.
Единственный аккорд, который, по-видимому, допускался греками, носил у них название антифонии, т. е. октавы. Эту антифонию, казавшуюся грекам самым прекрасным из всех аккордов, образовывали соединенные в одном хоре мужские и женские или детские голоса. Надо заметить, что нам трудно судить об этом пении: то, с.283 что они находили благородным, кажется нам грубым. Их музыкальный вкус создавался под давлением таких религиозных и нравственных понятий, привычек ума и воображения, которые чужды нам. В музыке, как и во всем другом, они любили ясность и спокойствие, скорее чистоту тона, чем богатство колоратуры.
Они пели обыкновенно в унисон; если же вводили аккорд, то только самый простой и ясный. Грекам были приятны отчетливые впечатления, которые они предпочитали и с точки зрения художественной, и как моралисты; они как бы питали страх к слишком богатой и слишком чувствительной мелодии, которая казалась им сладострастной и недостаточно мужественной.
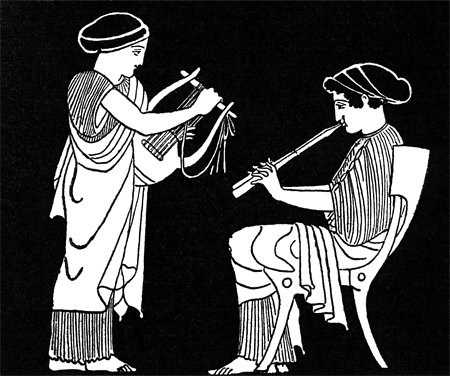
Кифара и флейта. |
Тем не менее в инструментальной музыке они предоставляли гармонии несколько больше места. К антифонии они прибавили симфонию, к аккорду в октаву — аккорд в кварту и квинту, а может быть, и несколько других. Эти аккорды создавались иногда при созвучии различных инструментов, чаще — инструментов и голосов. Но все это отличалось еще большой простотой и было только робкими попытками на таком пути, с.284 который мало соответствовал самому духу древности и по которому греки следовали лишь с большими колебаниями. В древнегреческих текстах, дающих нам сведения относительно употребления известных аккордов, выказывается в то же время решительное предпочтение более строгой красоте унисона.
Эта простота обнаруживается также и в мелодии. Окончательное признание октавы произошло у греков в очень позднее время, изобретение семиструнной лиры также не было особенно древним. Тем не менее, греков приводили в восторг их простенькие арии. Они заключали в себе для них не только живое очарование, но оказывали на их души крайне разнообразное действие и могучее влияние. Древние авторы постоянно обсуждают вопрос о спокойной красоте дорического лада, нежности лидийского, гордой энергии эолийского и патетическом характере фригийского…
Оригинальность этих разнообразных ладов состояла не только в заключительной ноте их мелодий, но и в известных каденцах12 и мотивах, свойственных странам, откуда произошли те или иные лады; впоследствии эти каденцы слились с гаммами, которые первоначально служили для их выполнения. Все это теперь ускользает от нас. Наши музыканты удивляются, что дорический лад, соответствующий нашему минорному тону, почитался за его твердую и мужественную важность. Может быть, такое различие суждений сильно зависит от изменения нравственных понятий; то, что греки разумели под мужественным тоном, разумеется, не вполне соответствовало понятию, вызываемому в нас этими самыми словами.
(A. Croiset. La Poésie de Pindare, стр. 72—
13. Музыка в Спарте.
Спартанцы обращали большое внимание на музыку и пение. Их собственная музыка отличалась чем-то с.285 проникновенным, возбуждающим мужество и великодушные чувства, внушающим великие порывы энтузиазма. Слова песен были просты и мужественны. Они лишь восхваляли тех, кто жил благородно и имел счастье умереть за Спарту, или же порицали людей, проявивших трусость, обрекая их на жалкое и несчастное существование. Наконец, в песнях прославлялась и воспевалась в соответствующих выражениях храбрость, приличествующая разным возрастам.
Сообразно с тремя возрастами человека, у спартанцев было три хора. На празднествах эти хоры соединялись, и старцы начинали петь:
| «В прежние времена и мы были Молоды, сильны и смелы!» |
После них хор мужей подхватывал:
| «Мы сильны и смелы теперь И можем доказать это всякому встречному!» |
Третий хор, детский, доканчивал, затем:
| «Наступит день, когда и мы будем такими же И даже превзойдем вас во многом». |
Наконец, военные песни спартанцев внушали мужество, уверенность в себе и презрение к смерти. При столкновении с неприятелем эти песни пели хором под аккомпанемент флейты. Ликург использовал любовь к музыке для военных упражнений, чтобы избыток воинственного пыла упорядочивался мерными звуками и чтобы в него были внесены совершенная гармония и согласованность действий. В виду этого царь перед началом битвы приносил жертву Музам, чтобы сражающиеся совершили подвиги, о которых стоило бы рассказать и передать со славою потомству.
Но видоизменять старую музыку строго воспрещалось. Сам Терпандр13, искуснейший музыкант своего времени, певец героических подвигов, был приговорен эфорами к штрафу, потому что он, стремясь к с.286 разнообразию аккордов, прибавил одну струну к лире: до такой степени пользовались любовью самые простые мелодии.
(Плутарх. Обычаи спартанцев, 14—
14. Лавочки парикмахеров.
Забота о наружности заставляла афинян высшего общества часто заглядывать в лавочки своих парикмахеров, и в то время, как один из посетителей, закутанный в халат, был занят стрижкой волос и бороды, а другой ожидал своей очереди, языки остальных работали во всю: греки всегда были большими любителями поболтать. Лавочки парикмахеров в Афинах были, таким образом, местом свиданий праздных людей; они играли роль наших современных кафе. Туда приходили даже без всякого дела — просто, чтобы повидать приятелей, узнать или рассказать сплетни, поговорить о политике…
Каждое сословие, каждый отдельный человек имел свои собственные привычки, и тот, кто хорошо был знаком с Афинами, знал, что в такой-то лавочке была вероятность встретить таких-то и таких-то людей…
В высшей степени похвальное желание развлечь своих посетителей, привычка постоянно слышать вокруг себя болтовню праздных людей развили в парикмахерах страсть говорить обо всем, судить вкривь и вкось. За ними была твердо установлена репутация болтунов и легковерных людей, и Плутарх (De garrulitate, 13) рассказывает несколько любопытных анекдотов, чтобы доказать справедливость этого…
(Rayet. Monuments de l’art antique, т. II).
15. Ссора между молодыми людьми.
«Однажды вечером я, по своему обыкновению, прогуливался по агоре с Фаностратом, молодым человеком моих лет. Вдруг мимо нас проходит сын Конона Ктесий, который был пьян. Он замечает нас, с.287 вскрикивает и, говоря сам с собой, как это случается с пьяными, так что нельзя было разобрать, о чем он говорит, — идет впереди нас к кварталу Мелита. Там у валяльщика Памфила собралась для выпивки довольно большая компания. Ктесий заставляет их встать и идти на агору.
Они встретились с нами; тут-то и возгорелась ссора. Один из них — кто именно, я не мог узнать — бросился на Фанострата и схватил его. Ктесий, его отец Конон и некий Феоген окружили нас, набросились на меня, сорвали сначала мой плащ, а затем, подставив мне ногу, столкнули в канаву и надавали таких ударов ногами и палками, что у меня оказалась разбитой губа и глаза затекли до такой степени, что я не мог раскрыть их. Одним словом, они оставили меня в таком ужасном состоянии, что я не мог ни подняться, ни говорить. Лежа на земле, я слышал, как они осыпали меня разными оскорблениями…
Конон закричал, подражая петуху, испускающему свой победный крик; другие говорили ему, чтобы он изобразил с помощью рук хлопанье крыльев.
В это время мимо шли прохожие, которые подобрали меня, а те люди убежали с моим плащом. Когда меня доставили домой, моя мать и служанки подняли крик от ужаса. Меня не без труда отнесли в баню и, когда хорошенько помыли, то показали врачам».
(Демосфен. Против Конона, 7—
16. Охота.
В сочинении Бартелеми14 скиф Анахарсис попадает к Ксенофонту в его Скиллонское поместье; автор с.288 пользуется этим приемом, чтобы описать греческую охоту по сочинению самого Ксенофонта.
«Иногда, — рассказывает Анахарсис, — хозяин поместья убеждал нас пойти на охоту, которую он настойчиво рекомендовал молодым людям в качестве упражнения, лучше всего приучающего к военным трудностям.
Диодор (его сын) часто водил нас на охоту за перепелами, куропатками и другими птицами. Мы вынимали птиц из клеток и привязывали среди наших сетей. Птицы той же породы, привлеченные их криками, попадались в ловушку и утрачивали жизнь или свободу.
За этими развлечениями следовали другие, более живые и разнообразные. У Диодора было несколько собачьих свор: одна — для зайцев, другая — для оленей, а третья, вывезенная из Лаконии или Локриды, — для диких кабанов. Он знал всех своих собак по именам, знал также их недостатки и достоинства. Никто лучше его не был знаком с приемами этого вида войны, и он говорил о ней так же хорошо, как отец его описывал ее.
Вот как происходила охота на зайца. По тропинкам и в некоторых скрытых проходах, куда животное могло скрыться, расставили сети разной величины. Мы отправились легко одетые и с палкой в руке. Доезжачий спустил одну из собак, а как только он заметил, что она напала на след, он спустил и других, и заяц вскоре был выгнан.
С этого момента интерес удвоился: вниманье было привлечено лаем собак, криками ободрявших их охотников, скачками и уловками зайца, который во мгновение ока пронесся по долинам и холмам, перескочил через рвы и скрылся в роще; он появлялся и исчезал несколько раз и в конце концов попался в одну из ловушек, расставленных на его пути. Сторож, стоявший поблизости, схватил его и отдал охотникам, которых он созвал криками и жестами. Под впечатлением торжества победы охотники начинали новую травлю. Мы устраивали ее несколько раз в день. Иногда заяц скрывался от нас, бросаясь вплавь в речку Селинунт.
с.289 Для охоты на кабанов мы запаслись копьями, дротиками и толстыми сетями. Оставшиеся на земле свежие следы животного, отпечатки его зубов на древесной коре и другие признаки привели нас к густым зарослям. Спустили лаконскую собаку, которая, попав на следы, дошла до логовища, где скрывался зверь, и оповестила нас о своей находке громким лаем; ее сейчас же отозвали; в разных местах натянули сети, и мы заняли свои места.
Кабан выскочил с моей стороны. Он не бросился в сторону сетей, а остановился и в течение нескольких минут выдерживал нападение целой своры собак и охотников, которые метали в него стрелами и камнями. Затем он вдруг кинулся на Мосхиона, который хладнокровно ждал его, намереваясь пронзить копьем; но копье это скользнуло по плечу и выпало из рук охотника, который внезапно решил броситься на землю лицом вниз.
Я был уверен в его гибели. Кабан, не находя за что ухватить его, чтобы подбросить вверх, стал уже топтать его ногами, когда увидел Диодора, спешащего на помощь товарищу. Он сейчас же ринулся на нового врага, который, благодаря большей ловкости или удаче, вонзил копье зверю между лопатками. При этом мы были свидетелями страшной свирепости этого животного. Пораженный смертельным ударом, он продолжал с яростью наступать на Диодора и своими движениями лишь вонзал железо себе в тело все больше и больше. При этом несколько наших собак были убиты или ранены; но еще больше их погибло на второй охоте, когда мы сражались с кабаном целый день. Другие кабаны, преследуемые собаками, попали в ловушки, скрытые ветвями.
На следующий день таким же образом погибли олени. Мы выгнали многих оленей из их убежищ, и наши собачьи своры утомляли их до такой степени, что они останавливались на расстоянии полета наших стрел или бросались в озера или в море».
(Barthélemy. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, гл. XXXIX).
с.290
17. Путешествие.
Греки совершали путешествия главным образом морем. Внутри страны дорог было мало, а те, какие имелись, были едва проложены. Однако, в низменных и болотистых местах встречаются следы дорог; в этих случаях они имеют вид насыпи или плотины; особенно интересна одна такая дорога в Беотии, имеющая
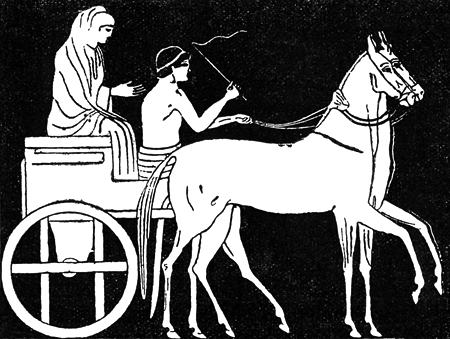
Упряжка. |
Обыкновенно путешествие совершалось пешком или верхом на лошади. Иногда для передвижения пользовались и экипажами, которые делались или в виде двухколесной одноколки, на оси которой находился закрытый с трех сторон кузов, или же в виде с.291 четырехколесной повозки, которая отличалась большей величиной и могла вместить путников с багажом.
В Греции существовали постоялые дворы, но в них не всегда можно было найти пропитание, а потому благоразумнее было брать провизию с собой, и редко кто пренебрегал этой предосторожностью. По прибытии в какой-нибудь город чаще всего останавливались у знакомых. Гостеприимство считалось обязанностью, и всякий богатый или состоятельный человек имел особые комнаты для своих друзей. Если же у путешественника не было никого знакомых, он охотно проводил ночь под портиками на свежем воздухе; в Греции это не представляло больших неудобств.
Путешествие обходилось очень дешево, по крайней мере морем. В IV веке проезд из Эгины в Пирей (около 6 миль) стоил 2 обола (около 12 коп.), а переезд из Египта в Пирей (200 миль) с «женою, детьми и багажом» обходился в 2 драхмы (около 75 коп.).
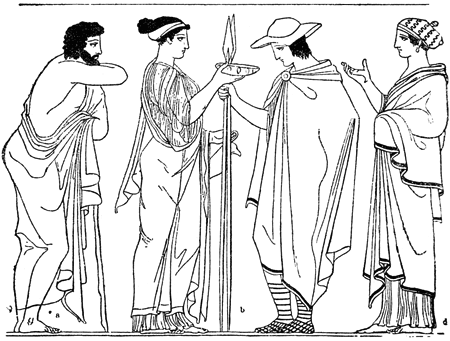
Сцена из греческой жизни. |
с.292
18. Гостеприимство.
Телемак отправляется на розыски отца своего Одиссея и приезжает в сопровождении сына Нестора к спартанскому царю Менелаю.
| «К царскому дому прибыв, на дворе из своей колесницы Вышли; им встретился прежде других Этеон многочтимый, Спальник проворный царя Менелая, великого славой. С вестью о них ко дворцу побежал он к владыке Атриду; Близко к нему подошедши, он бросил крылатое слово: — Царь Менелай, благородный питомец Зевеса, два гостя Прибыли, два иноземца, конечно, из племени Дия. Что повелишь нам? Отпрячь ли их быстрых коней? Отказать ли Им, чтоб они у других для себя угощенья искали? — С гневом великим ему отвечал Менелай златовласый: — Ты, Этеон, сын Воэтов, еще никогда малоумен Не был, теперь же бессмысленно стал говорить, как младенец; Сами не раз испытав гостолюбие в странствии нашем, Мы напоследок покоимся дома, и Дий да положит Бедствиям нашим конец. Отпрягите коней их; самих же Странников к нам пригласить на семейственный пир наш обоих. — Так говорил Менелай. Этеон побежал, за собою Следовать многим из царских проворных рабов повелевши. Иго с ретивых коней, опененное по́том, сложили; К яслям в царевой конюшне голодных коней привязали; В ясли же полбы насыпали, смешанной с ярким ячменем; К светлой наружной стене прислонили потом колесницу. Странники были в высокий дворец введены; озираясь, Дому любезного Зевсу царя удивлялися оба: Все лучезарно, как на небе светлое солнце иль месяц, Было в палатах царя Менелая, великого славой. Очи свои наконец, довольствовав сладостным зреньем, Начали в гладких купальнях они омываться; когда же Их и омыла, и чистым елеем натерла рабыня, В тонких хитонах, облекшись в косматые мантии, оба |
|
| с.293 | Рядом они с Менелаем властителем сели на стульях. Тут поднесла на лохани серебряной руки умыть им Полный студеной воды золотой рукомойник рабыня; Гладкий потом пододвинула стол; на него положила Хлеб домовитая ключница с разным съестным, из запаса Выданным ею охотно; на блюдах, подняв их высоко, Мяса различного кравчий принес и, его предложив им, Кубки златые на браном столе перед ними поставил. Сделав рукою приветствие, светлый сказал им хозяин: — Пищи откушайте нашей, друзья, на здоровье; когда же Свой утолите вы голод, спрошу я, какие вы люди». |
После обеда
| «………Елена велела немедля рабыням В сенях кровати поставить, — постлать тюфяки на кровати, Пышнопурпурные сверху ковры положить, на ковры же Мягким покровом для тела косматые мантии бросить. Факелы взявши, пошли из столовой рабыни; когда же Все приготовлено было гостям, проводил их глашатай»… |
При отъезде Телемака Менелай дарит ему «пировую кратеру15 богатую; эта кратера вся из сребра, но края золотые, искусной работы». Сам Менелай получил ее в подарок от сидонского царя. Елена также дарит ему покрывало «шитьем богатейшее, блеском как солнце», самое лучшее и большее из всех.
(Гомер. Одиссея, песнь IV, 20—
ПРИМЕЧАНИЯ