Издательство «Наука». Москва—Ленинград, 1964.
Редактор Е. Г. Дагин.
с.119
Маленький городок. На ступеньках храма сидит несколько человек, по одежде судя, — бедняки. Разговор не клеится; у каждого своя дума и своя забота. У бедного человека всегда много забот и всегда тревога, заработаешь ли завтра на хлеб, сможешь ли вовремя отдать долг. Каждый думает о своем, но все об одном и том же, и все больше и больше хмурятся лица. И вдруг неизвестно откуда, словно из-под земли выросли, появились несколько человек, от одного взгляда на которых становится смешно: коротенькие плащики, сшитые из разноцветных лоскутьев, сверху наброшен квадратной формы женский платок, едва доходящий до бедер; к ногам привязаны такие тонкие подошвы, что ноги кажутся босыми. Лица расписаны пестрыми красками, и сделано это умно и умело: линии проведены и краски подобраны так, что сразу определишь основные свойства обладателя такой физиономии. И с этих размалеванных лиц глядят хитро и насмешливо такие умные глаза! «Мимы, пришли мимы!», и люди уже улыбаются, глядя на эти потешные фигуры; по площади уже перекатывается смех, и из домов, из мастерских, бросив работу и не доев бедной похлебки, сбегаются поглядеть на представление мужчины и женщины, старики и дети.
Мимы не теряют времени. Тут же на площади, без всяких подмостков, без всякого театрального реквизита разыгрывают они маленькие, живые, веселые сценки, с.120 содержание которых взято из быта тех самых простых и бедных людей, которые густой толпой окружили актеров. Бойкий диалог, веселые реплики, смешные вопросы, комические ситуации, фейерверк острот, много шума, крика, беготни, драки; зрители помирают со смеху. Люди, у которых час назад опускались руки, разойдутся, повеселев, приободрившись, словно спрыснутые живой водой волшебного источника. Шутовски одетым, смешно разрисованным актерам дана власть снять на какой-то час ярмо повседневных забот и печалей. Смех, веселый, беззаботный смех вливал силы, животворил и укреплял. А чудотворцы, презренные, откинутые законом в число подонков общества, собрав гроши, которыми в меру своих небогатых возможностей оделили их зрители, и перекусив в ближайшей харчевне, отправлялись дальше, вовсе не подозревая, что они совершили чудо и будут творить чудеса и в дальнейшем.
Мимом (и само произведение, и актеры, его исполнявшие, именовались одинаково «мимами») назывались небольшие бытовые сценки, которые обычно писали сами актеры — часто талантливые импровизаторы. Сценки эти разыгрывали на улицах и площадях городов и селений, в харчевнях и частных домах. Сулла был большим любителем таких представлений; актеры-мимы не выходили из его дома. Приблизительно к этому времени пьески «уличных мимов» с импровизированным диалогом и наспех придуманным очень несложным действием начинают получать литературную обработку, и мим превращается в театральное представление, которое обязательно ставится после трагедии, чтобы, как объясняет схолиаст к Ювеналу, «смехом стереть печаль и слезы, вызванные трагедией». Уже к половине I в. до н. э. мим прочно утвердился на сцене, удержался на ней в течение всей римской империи, пережил ее крушение, уцелел среди всех бурь варварского нашествия и появился в Италии под новым названием comedia del’ arte.
Ни одного из ранних мимов не дошло до нас целиком; уцелели отдельные слова и жалкие обрывки в две-три строчки. По заглавиям, однако, видно, что сюжеты для мимов авторы брали из повседневной жизни рабочего с.121 люда, сельского и городского (преимущественно последнего): «Красильщик», «Торговец тряпьем», «Уличный праздник», «Сукновал», «Бедность». «Мимы получили свое название от изображения (буквально — «подражания»: слово «мим» происходит от греческого mimesis — «подражание», —
Большой популярностью в конце I в. н. э. при императоре Домициане пользовался мим, содержание которого можно восстановить, но заглавие и автор которого остаются неизвестными. Молодая женщина, вышедшая замуж за старого глупого ревнивца, влюбилась в красивого юношу. Ловкий пройдоха-раб устроил влюбленным свидание в доме, где живет молодая жена со своим мужем. Все идет благополучно, но вдруг нежданно-негаданно в двери кто-то стучится. Общее замешательство, стук все сильнее и сильнее — что делать, куда деваться? В отчаянии жена запихивает любовника в сундук. Открывают двери, но входит не муж, а сосед, зашедший переговорить о деле с мужем. Вместо того, однако, чтобы повернуться и уйти, не застав нужного человека, он остается, сидит и сидит. Догадывается о чем-то? Пронюхал что-то? Молодая женщина не находит себе места, несчастный любовник начинает задыхаться в сундуке. Гость, наконец, уходит, любовник вылезает на свет божий, но не успел он еще как следует отдышаться, как появляется муж. Налицо все улики, муж бросается с кулаками на изменницу и ее любовника, но жена пускает в ход все свои чары, всю силу своего обаяния — и достигает своего — глупец перестает верить собственным глазам: он убедился, что жена любит его, что она ему верна, и мим заканчивается дружеской беседой между мужем и любовником.
Сюжет этот, неоднократно повторенный с разными вариациями в мировой литературе от апулеева «Золотого осла» до «Ночи перед Рождеством» у Гоголя, мим разрабатывал так, что в руках умелых актеров он превращался в комическое действо ослепительного блеска. Какие богатые возможности давала та сцена, где насторожившийся посетитель упрямо не уходил! Жена, не помня себя от страха, молола всякий вздор голосом, поднимавшимся до оглушительного крика, лишь бы заглушить подозрительные звуки, доносившиеся из сундука. А развязка! Все уловки жены, убедившей мужа, что она чиста и невинна; непроходимая глупость бедного ревнивца, его дружба с любовником — было над чем посмеяться. При с.123 Домициане роль злополучного любовника играл мим Латин, великолепный комический актер, о котором Марциал, его современник, писал, что он заставил бы глядеть на себя Катона, а Куриев и Фабрициев (представителей старинной строгости и чистоты нравов) забыть свою суровость. Напарницей Латина на сцене была мима Фимела, блестяще исполнявшая роль лукавой обманщицы-жены.
Целью мима было смешить, увеселять зрителей, и он не был разборчив в средствах: ему нужно только достигнуть цели. Он использует приемы балаганного шутовства; крики, беготня, потасовки, оплеухи — без этого не обходится мим. К актеру, исполняющему главную роль, всегда приставлен его двойник, повторяющий его слова, движения и жесты. За это он получает пощечину за пощечиной. Комизм мима груб; его остроты часто непристойны. Цицерон предупреждал оратора, чтобы он не позволял себе таких шуток, которые уместны только в миме; Гораций писал, что он не может восхищаться мимами: «Заставить зрителя хохотать во все горло — этого мало». Мим скользит по поверхности, он бездумно весел; не его дело задумываться над серьезной стороной явлений. Он выбирает легкое и смешное. Вот больной, проснувшийся от летаргического сна; он не может прийти в себя, не понимает, где он и что с ним. Вдруг ему представляется, что он кулачный боец; больной кидается на своего врача — врача-то он вспомнил! — и начинает его тузить. А вот еще «лицо из мима»: бедняк, на которого внезапно свалилось богатство; он совершенно потерял голову и давай кутить напропалую. Умелый актер мог, конечно, разыграть эти нехитрые сцены так, что в театре стоял несмолкаемый хохот.
Иногда мим берет сюжеты мифологические и выворачивает их наизнанку: на сцене появляется прелюбодей Анубис; Диану секут; читается завещание скончавшегося Юпитера, издеваются над голодным Гераклом. Юпитер «величайший сильнейший» появлялся на сцене в таком виде, что зрители покатывались со смеху: обросший, в коротенькой одежонке наподобие женской мантильки, с деревянной молнией в руке — как не хохотать! Глупость бывает смешна, и мим весело и беззаботно демонстрирует ее зрителям в разных видах и аспектах — от глубокомысленных отдельных замечаний вроде «пока он ездил на воды, он ни разу не умирал» или «если ты не беременна, с.124 ты никогда не родишь» до целого произведения, построенного на том, что действующие лица не могут схватить смысла фразы, а понимают каждое слово буквально. Цицерон помнил «этот старый, очень смешной мим». Историю обманутого мужа и неверной жены мим представляет очень часто, и мимографы перерабатывают ее на разные лады; ее любят именно потому, что в очень уж смешном виде здесь представлен дурак-муж. Сам Август спокойно смотрел, по словам Овидия, на «прелюбодеяние на сцене», а его-то уж никак нельзя считать потаковщиком того, что разрушает семью и уничтожает святость брака. Миму не полагалось вдумываться в сущность явлений; под его веселым текстом никогда нет того второго, скрытого плана, который вдруг неожиданно выбивается наверх с грозным окриком «над кем смеетесь? Над собой смеетесь!».
Комизм в ситуациях и в действующих лицах особенно подчеркивала игра, в которой большое значение имели буйная, смешная жестикуляция и потешные гримасы (актеры в мимах в противоположность актерам трагедии и комедии играли без масок). На комический эффект рассчитан был и язык мима, грубый, простонародный, часто сбивающийся на уличный жаргон. Мим называл вещи своими именами, выбирая наиболее хлесткие, не боялся крепких словечек и был очень щедр на непристойные сцены. Недаром в Массилии (нынешний Марсель), которая славилась строгостью и чистотой своих нравов, запрещена была постановка мимов, а церковные писатели называли их прямо «училищем порочности».
Мы упоминали о миме Фимеле, игравшей вместе с Латином. Присутствие в актерской труппе женщины отличает труппу мимов от всех остальных актерских трупп древности. И в Греции, и в Риме, и в трагедии, и в комедии женские роли исполнялись мужчинами, и только в мимах женщин играли женщины. Стоит задержаться на этих актрисах, тем более что о некоторых из них мы имеем сведения документальные.
Мимы обычно были отпущенницами. Чтобы попасть на сцену, надо было обладать определенными качествами: голосом — действие мима разнообразилось пением песенок, — грацией: танцы обычны в миме (некоторых актрис называли даже «танцовщицами»: вероятно, в танцах они были сильнее, чем в игре) и — первое условие — с.125 комическим талантом и умением держаться на сцене. Мимы-женщины (как и мужчины, конечно) должны были пройти определенную школу; мы не знаем, где и как они обучались, и может по этому поводу только высказывать предположения, имеющие, правда, большую степень вероятности. В большинстве случаев актерская профессия была наследственной и в качестве учителей оказывались отцы и матери, иногда их друзья и сотоварищи. Случалось, что хозяин, подметив способности своей рабыни, отдавал ее в учение актерам. Кроме сценических дарований, хорошо было иметь способности, которые облегчали жизнь: следовало быть записной кокеткой и уметь кружить головы. Мимы владели этим умением, по-видимому, в совершенстве; молодежь разорялась на них, как у нас когда-то богатые бездельники разорялись на цыганок. Случалось, что миму, если ее добром не отпускали из труппы, похищал влюбленный юнец; власти на такие проделки смотрели сквозь пальцы. Мима Терция, по уверению Цицерона, была в Сицилии более влиятельна, чем сам Веррес, наместник острова. Он увез ее от мужа, какого-то родосского флейтиста, и она быстро сумела прибрать его к рукам. Гораций вспоминал некоего Марсея, который истратил на свою любовницу, миму Оргину, все отцовское состояние. Для характеристики нравов высшего римского общества конца республики много поучительного дает история мимы Кифериды. Она была отпущенницей и любовницей римского всадника Волумния Евтрапела, приятеля и собутыльника Антония, будущего триумвира. Был это неистощимый острослов и шутник, обладал большим богатством, был ненасытно жаден и никакими нравственными соображениями себя не стеснял. Цицерон находился с ним в добрых отношениях и, приглашенный однажды к нему на обед, очутился в обществе Кифериды. По староримским понятиям, ввести в общество порядочных людей как равную им свою любовницу, отпущенницу и вдобавок еще миму было поступком предельно неприличным, и знаменитый оратор почувствовал себя неловко. «Клянусь Геркулесом, — писал он одному своему приятелю, — я не подозревал, что она будет присутствовать за обедом…». Скоро предприимчивая отпущенница нашла себе более высокого покровителя: перешла от Волумния к его приятелю Антонию. В 49 г. до н. э. Цезарь находился в Испании, и Антонию пришлось с его с.126 поручениями объездить ряд городов. Путешествие это он совершил в сопровождении Кифериды. Цицерон отвел душу, описывая эту поездку: «В повозке ехал народный трибун, впереди шли ликторы в лавровых венках2, окружавшие носилки, в которых несли миму. Почтенные жители городов, обязанные выходить навстречу, приветствовали миму, называя ее не сценическим громким именем, а Волумнией». Рассказ этот чрезвычайно интересен. Киферида приобрела известность, вышедшую далеко за пределы Рима; историю ее, видимо, знали чуть ли не по всей Италии. «Почтенные горожане», встречавшие Антония, прекрасно понимали, что с ним шутки плохи; выход своему негодованию можно было дать только в той форме, к которой нельзя было придраться. Обратиться к Кифериде «Волумния» было вполне естественно и пристойно, но яда тут было хоть отбавляй! Этим именем ей напоминали, во-первых, что она вчерашняя рабыня, а во-вторых, косвенно осуждали ее поведение: отпущенница Волумния, обязанная почтением и преданностью своему патрону, его бросила и ему изменила (стоит отметить, что уже тогда у актеров было в обычае давать себе придуманные, сценические имена). В следующем году после битвы при Фарсале Киферида встретила Антония в Брундизии (теперь Бриндизи), и они вместе через ряд городов проехали к Риму. «Ты поспешил в Брундизий в объятия своей дорогой мимы, — негодовал Цицерон. — Если тебе не стыдно было жителей городов, через которые ты проезжал, то неужели не устыдился ты старых солдат!». Плутарх и Плиний Старший рассказывают, что повозку, в которой Антоний ехал с Киферидой, везли львы. «Ехать так с мимой — это превосходило даже чудовищные бедствия того времени!» — искренне возмутился Плиний (надо думать, что львов придумали позже; если бы Антоний со своей мимой ехали действительно на львах, Цицерон не упустил бы такой красочной подробности. Поездка Антония вызвала, видимо, такое возмущение и столько разговоров, что в ткань истинного происшествия начали непроизвольно вплетать подробности вымышленные).
Актрисы-мимы, как видим, строгой нравственностью не отличались: Гораций прямо ставил знак равенства с.127 между ними и уличными женщинами. Фимела, о которой речь была выше, не смущаясь, разыгрывала самые нескромные сцены; рассказ Прокопия о том, что вытворяла на сцене мима Феодора, будущая супруга Юстиниана и византийская императрица, перевести невозможно. О мимах-мужчинах мы знаем меньше: ни один не оставил по себе в памяти такого яркого следа, как Киферида. Схолиаст к Ювеналу, вспомнив Лентула, автора «Лавреола», замечает, что «Лентул был достоин настоящего креста: превосходный актер, был он человеком гнусным». Марциал попытался написать апологию Латина, разыгрывавшего непристойнейшие сцены (сам поэт оправдывался перед своими «целомудренными читательницами» ссылкой на то, что его стихи нисколько не бесстыднее мимов, где выступает Латин): «В моей жизни ничто не походило на сцены, представляемые мною в театре. Человек сцены, я славен только моим искусством. Я не был бы приятен владыке (Домициану), не обладай я добрыми нравами». Стихи эти скорее всего ставили косвенной целью оправдать Домициана, приблизившего к себе Латина. Последний был вхож во дворец, рассказывал Домициану за обедом о всяких городских происшествиях и в эту безобидную болтовню вставлял свои доносы. Был он одним из самых страшных доносчиков того страшного времени. Других подробностей из его жизни мы не знаем. Никаких биографических подробностей не дают и надгробные надписи мимов. Следует, однако, задержаться на одной из них. «Лонгин Макк сладостно прожил со своими до последнего дня». Имя «Макк» сразу воскрешает в памяти родословную мима. Он был прямым наследником народного италийского фарса, известного под названием ателланы. Темы для своих бойких коротеньких сценок ателланы брали из повседневной простонародной жизни. Играло в них четверо актеров (не обязательно все сразу): Папп, влюбленный старик, которого все обманывают; Доссен, горбатый шарлатан, напускающий на себя ученый вид; ненасытный обжора и неумолчный болтун Буккон; отпетый дурень Макк. Очень вероятно, что мим завладел всеми этими четырьмя фигурами; относительно же Паппа и Макка это можно смело утверждать. Папп появился в миме в старой своей роли глупого обманутого мужа, а Макк — в роли непременного спутника главного актера, который во всем ему подражает — своих слов и жестов с.128 у него нет — и за постоянную назойливую имитацию получает оплеуху за оплеухой. Ему дано в миме только другое название: его зовут просто «дураком». По всей видимости, Лонгин играл в мимах именно эту роль и сознательно выбрал для себя прозвищем старое имя дурака из ателлан.
Из надписей получили мы драгоценные сведения о союзах, профессиональных обществах, в которые входили мимы. Союзы эти назывались «коллегиями», «корпусами», «коммунами». В одни из них входили все работники сцены: актеры, трагические и комические; музыканты, флейтисты, кифареды и скабилларии (они получили свое имя от особого инструмента scabillum, с помощью которого отбивали такт). Надпись из Бовилл (маленький городок в Лации), относящаяся к 169 г. н. э., знакомит нас с одним из таких союзов.
Во главе его стоит архимим («начальник мимов»). Нашего архимима зовут Л. Ацилий, сын Луция, Евтих: он сын отпущенника, грек происхождением, о чем свидетельствует его прозвище Евтих («счастливый»). Он давно состоит членом союза мимов и занимает в нем почетную должность главы. Вел он себя на этом месте так, что его, первого, актеры назвали «отцом» и, сложившись, поставили ему статую «за его попечительность и любовь к ним». Сценическая карьера его была многообразной; надпись называет его «паразитом Аполлона, трагиком и комиком». Прежде всего следует помнить, что слово «паразит» имело значение почетное, так называли тех жрецов, которые имели право принимать участие в жертвенной трапезе. Быть «паразитом Аполлона» — значит быть удостоенным дружбы и застолья бога, покровителя всех искусств. Евтих пробовал свои силы и в трагедии, и в комедии и, видимо, решил, что талант его — это талант комика. Был он в театральной среде человеком известным: «его знали и чтили актеры всех союзов». И не только актеры: он был декурионом, т. е. членом городского совета в Бовиллах.
Труппа его состояла из 60 человек, судя по именам, это были отпущенники или сыновья их, а если свободнорожденные, то из низов. Не все в этом «стаде» (обычное название актерской труппы «grex») были, конечно, актерами: сюда входили и музыканты, и театральные служители. Интересно, что в списке труппы нет ни одного с.129 женского имени, а мы знаем, что женщины играли в мимах и в надписях упоминаются даже женщины-архимимы, «директрисы труппы». Случайно отсутствие женских имен в надписи Евтиха, или были отдельные труппы, мужские и женские, объединявшиеся для представлений, но в остальном ведшие, как союз, жизнь особую и самостоятельную? На последнее соображение наводит одна мысль, упоминающая погребальную коллегию не целой труппы, а только мим-женщин.
Говоря о мимах, следует упомянуть еще так называемых ареталогов и «биологов». Первые были рассказчиками и, надо думать, мастерами рассказа: Август любил приглашать их на свои званые обеды, чтобы развлекать гостей. Они были неистощимы на выдумки, всевозможные преувеличения и прикрасы; Ювенал называет их «лжецами», а схолиаст к Горацию — «болтунами». Входили эти веселые сказочники в состав труппы мимов? Действовали они на свой страх и риск, ни с кем не объединяясь? Ничего, к сожалению, сказать нельзя.
«Биологами» называли искусников, умело кого-нибудь представлявших. Было у них и другое имя: «этологи» (от греческого ετηος — «нрав»). Представлять можно было по-разному: копировать только внешнее, т. е. манеры, голос — так, вероятно, изображал погонщиков мулов и рыночных зазывал раб одного из гостей Тримальхиона, которого хозяин рекомендовал как «мастера на все руки». Можно было, однако, изобразить «внешнего человека» так, что вся его манера держать себя оказывалась оболочкой, тонким покровом, сквозь который просвечивало самое существо. Виртуозы этого дела умели сразу «одними устами говорить за многих». «Тот, чей облик был повторен (буквально «удвоен», —
с.130 Хороший «биолог» был, конечно, желанным в труппе мимов. Может быть, он к ней иногда и присоединялся. Но, насколько можно судить по надписям, они держались особняком и в состав труппы как ее постоянные члены не входили.
Гораций, говоря о тех, кого опечалила смерть певца Тигелла, называет сирийских танцовщиц, продавцов лекарств (это были шарлатаны первой статьи), нищих, шутов и мимов. Это характерно: место мимов в самом низу общественной лестницы; их профессия считается бесчестной. О мимах-женщинах закон говорит: «…рожденные от этих подонков общества». В представлении римлян еще конца республики выступить мимом на сцене — значило обесчестить себя, потерять свое гражданское достоинство. В древности широко была известна история Лаберия, римского всадника, сочинявшего мимы. Обладал он несомненно и большим талантом артиста-комика, который и демонстрировал в домашнем и дружеском кругу. Это было известно, и Цезарь предложил Лаберию выступить в театре в соревновании с другими актерами, обещая 500 тыс. сестерций и золотое кольцо для восстановления во всадническом звании. Лаберий не осмелился ответить отказом; на сцене произнес он свой знаменитый пролог, где жаловался на свою участь: «Я, шестьдесят лет проживший безупречно, вышел сегодня из дому римским всадником и вернусь мимом! Да, на один этот день прожил я дольше, чем мне следовало жить». Неподдельная, едкая горечь этих слов достаточно говорит о том, каким презренным существом был актер-мим.
С мимами, однако, произошло то же самое, что с гладиаторами: презренные отверженцы, лишенные гражданской чести, они славны и любимы. Им ставят статуи; мы видели, что архимим Евтих в обход всех законов состоял членом городского совета. Плутарх рассказывает, что Сулла в молодости водился с мимами, и они составляли его излюбленное общество и тогда, когда он стал всесильным диктатором. Архимим Соракс был ему близким другом. Мимы были своими людьми при дворе. Когда Иосиф Флавий хлопотал об освобождении нескольких иудейских священников, он обратился за помощью к своему соотечественнику Алитуру, известному миму. Тот представил его императрице Поппее, и бедных стариков освободили. Уже знакомый нам Латин был постоянным застольником с.131 и собеседником Домициана. Марк Аврелий жаловался, что мимы мешают людям заниматься серьезными делами, например философией. Его соправитель Луций Вер, вернувшись после парфянского похода в Рим, привез с собой такое количество всяких артистов и в том числе мимов, что ходовой стала насмешка: император вел войну не с парфянами, а с актерами, и пленными привел именно их.
Мимы были любимы не только при дворе и в аристократических кругах; их очень любил народ. С мимами в его жизнь, неустроенную, трудную и для работника, не знающего передышки, и для бездельника, бесприютного и полуголодного, входили отдых, веселье, смех. Дион Хризостом писал, что честолюбец, который желает приобрести симпатии народа и с этой целью устраивает для него превосходное угощение, ничего не добьется, если на этих пиршествах не будут выступать фокусники и мимы. От императоров требовали не только хлеба, но и театральных зрелищ. Со II в. они представлены главным образом мимами (столь излюбленные пантомимы были только их разновидностью). И среди императорских указов появляются такие, которые «со всей настоятельностью повелевают актрисам-мимам заниматься своим делом, дабы римский народ не был лишен привычных развлечений».
Трудно говорить о мимах как о людях; то, что мы знаем о нескольких, не дает права говорить обо всей корпорации, тем более, что члены ее располагались по ступеням очень высокой лестницы, имущественной и артистической. Были среди них и богачи; мима Дионисия, по словам Цицерона, зарабатывала 200 тыс. сестерций в год; в эпитафии Виталия сказано, что он приобрел в Риме просторный дом и составил большое состояние благодаря своему таланту. Были, конечно, и бедняки. Были превосходные артисты, гордость комической сцены; были и просто грубые шуты. Некоторая общность умонастроения и нравов роднила, конечно, всех. Вряд ли их поведение в жизни отличалось таким же бесстыдством, как на сцене, но трудно представить их хранителями строгой нравственности. В большинстве своем это были легкие и талантливые люди: моральными соображениями они себя не отягощали, были очень наблюдательны, гнались за успехом и славой, принадлежали к той породе, о которой говорится, что «ради красного словца не пожалеет и отца»; были остроумны и злоязычны. Писаный текст мима всегда с.132 оставлял широкий простор для импровизированных вставок, и актеры-мимы пользовались этим, чтобы превратить совершенно аполитичное произведение о дураке-муже и развратнице-жене в злободневную вещь. И тут актер уже не знал удержу: пусть весь мир трепещет перед императором — мим его не боится. Этот презренный, обесчещенный человек бросает владыке мира со сцены такие слова, что зрители задыхаются от восторга и ужаса. Лаберий отомстил Юлию Цезарю в тот самый раз, когда тот заставил выступить его на сцене. Играя роль раба, которого собирались выпороть, он закричал: «Квириты! свободу теряем» — и затем добавил: «Придется всех тому бояться, кого боятся все». Сказано это было так, что все обернулись на Цезаря. Августу пришлось стерпеть очень двусмысленную шутку по своему адресу. При Тиберии дело об «актерской дерзости» дошло до сената: мимов, не стеснявшихся в выборе слов по адресу каких-то крупных магистратов, попробовал остановить с помощью своих солдат трибун преторианской когорты. Народ возмутился; дело дошло до драки, с обеих сторон оказались убитые. Предложено было дать преторам право наказывать актеров розгами. Предложение не прошло — «божественный Август, — рассказывает Тацит, — некогда постановил, чтобы актеры были избавлены от телесных наказаний, и Тиберий не смеет преступать его слова». Тиберию пришлось уступить. Эпитет «старого козла», данный ему в одной ателлане (мы говорили о близком родстве ателланы и мима), облетел весь Рим; повторяли его с большим удовольствием. После отравления Клавдия и убийства Агриппины (Нерон попробовал сначала утопить мать, подстроив гибель судна, в котором она направлялась к себе домой), мим, пропев «будь здоров, отец! будь здорова мать!», изобразил в живой жестикуляции пьющего и плавающего человека, «намекая на то, как погибли Клавдий и Агриппина», а затем указал на сенаторов и пропел «Орк уже тащит вас за ноги». Нерон не осмелился казнить смельчака и только выслал его из Италии. Марк Аврелий относился очень терпимо ко всем похождениям своей жены и даже осыпал почестями ее любовников. Однажды он застал ее за ранним утренним завтраком с неким Тертуллом, но по обыкновению сделал вид, что ничего особенного не случилось (к утреннему завтраку приступали обычно сразу же после вставания, т. е. на рассвете). с.133 История эта быстро стала известной всему Риму и появилась на сцене в таком виде: игрался излюбленный мим о глупом обманутом муже; глупец спрашивает раба, как зовут любовника жены, раб отвечает: «Тулл»; спрошенный в третий раз, он нетерпеливо восклицает: «Я же сказал тебе трижды: “Тулл”» (по-латыни ter Tullus = Tertullus).
С Марком Аврелием можно было шутить такие шутки: он их милостиво спускал. Но Максимин (III в.) был человеком страшным. В ненависти к нему объединилось все население: сенат, города, сельское население и даже солдаты, которым он вообще покровительствовал. И в его присутствии мим осмелился спеть такую песенку (правда, на греческом языке; Максимин по-гречески не понимал ни слова): «Кого невозможно убить одному, того убивают многие. Слон велик, а его убивают. Лев силен, а его убивают. Тигр силен, а его убивают. Остерегайся множества людей, если в отдельности никого не боишься». (Страшный смысл этих стихов становится еще яснее, если вспомнить, что Максимин считал себя всегда в полной безопасности, полагаясь на свой огромный рост и непомерную физическую силу). Песенка была встречена неистовым одобрением; насколько она пришлась всем по сердцу, видно из того, что никто не выдал дерзкого актера: Максимину сказали, что это стихи из комедии, обращенные к старому ворчуну. Легкомысленные лицедеи оказались единственными, кто осмеливался говорить в такое время, когда все молчали.
Стоит рассказать еще одну историю, правда из времени значительно позднейшего. Дело происходило в Константинополе при императоре Феофиле (IX в.), который славился своей до жестокости доходившей справедливостью.
Один высокий сановник, по имени Никифор, отнял у какой-то вдовы довольно большой корабль с товарами. Добиться правды ограбленная женщина никак не могла, потому что другой сановник не допускал ее к императору. Тогда вдова обратилась к мимам. На ближайшем же представлении император с изумлением увидал, как несколько мимов поставили перед его местом маленький кораблик. «Раскрой пасть, — обратился один к другому, — и проглоти суденышко». — «Я не могу!». — «Чепуха! Префект Никифор проглотил у вдовы большущий корабль, да еще с.134 со всем грузом, а ты не можешь сглотнуть эту мелочь». Император потребовал объяснения, и оба сановника были казнены страшной казнью: их сожгли. Вдова получила обратно свое имущество.
При своей внимательности к современной жизни мим не мог пройти мимо христианства. «Христианин» стал новой фигурой, которую присоединили к старым, давно унаследованным типам мима. С богами языческого пантеона мим расправлялся со свойственной ему безудержной дерзостью; тем менее было для него основания щадить новую, чуждую, религию. На христиан сочиняются едкие и веселые песенки, «которые распевают повсеместно и во всякое время, на площадях, на пирушках, в веселье и в печали». Осмеиваются христианские таинства, крестная смерть Христа, церковные служители. Их одевают в непристойные одежды и устраивают на сцене пародию христианских таинств. Император Юлиан пользовался мимами как своеобразной пропагандой против христианства. Немудрено, что церковные писатели мечут против мима громы и молнии. Театр объявляется вотчиной сатаны, а мимы — его мистериями. Нельзя смотреть мимы и остаться чистым. Мимы — это «огненная вавилонская печь», которую топит сам сатана. Иоанн Златоуст обрушивался на мимы со всем пылом своего огненного красноречия. Напрасно! Мимы продолжали оставаться излюбленным зрелищем; люди толпами валили поглядеть на любимых актеров, и тут ничего не могли поделать ни пламенные проповеди, ни суровые постановления церковных соборов.
Интересна апология мима, которую написал современник Юстиниана, софист Хорикий. Был он уроженцем и жителем Газы, веселого финикийского города, где мим любили и от нападок на него морщились. Хорикий рассчитывал на сочувствие своей аудитории, когда, пренебрегая церковными проклятиями, публично произнес свое «слово об изображающих жизнь в театре Диониса».
Мим обвиняют в том, что он смешит. Но смех — это дар богов. Человека от неразумных животных отличает то, что он умеет говорить и смеяться. В миме бывают представлены и ложь, и прелюбодеяние, и нарушение клятвы. А разве их не бывает в жизни? Мим только «подражает» жизни, а это «подражание» (mimesis) есть основа всех искусств: и поэзии, и скульптуры, и живописи. Нельзя с.135 говорить, что мимы отвлекают ремесленников от работы и делают их бездельниками (прямой намек на Иоанна Златоуста). Человек не может все время работать: отдохнув, «унося из театра след улыбки», он возьмется за работу прилежнее и веселее. Все люди, не только его сограждане, любят мим. Неужели все ошибаются?
Цирка в нашем смысле в древнем Риме не было. Акробаты и фокусники показывали свое искусство где придется: на театральной сцене, в долине, где происходили конские бега (она называлась Большим Цирком), просто на улицах и площадях или на обочинах больших дорог, где всегда было движение и множество людей, а следовательно, могли оказаться и зрители.
Акробатическое искусство древности было очень многообразно, и представлено оно было разными специалистами. Среди них видное место принадлежит канатоходцам. Акробат не только ходил, он танцевал на канате, разувался и снимал одежду, «словно собираясь лечь в постель». На одной фреске из Геркуланума изображены в виде сатиров такие канатоходцы: все они танцуют и в то же время играют на флейте или на кифаре. Один держит в левой руке чашу, а в правой — рог с вином и, отведя эту руку на такое расстояние, чтобы струя попадала прямо в чашу (рог устроен так, что струя бьет из его нижнего, острого конца, откуда вынута пробка), следит, не прекращая танца, за дугой, которую вино описывает. Иногда вместо каната натягивали тонкую-тонкую веревку: издали могло показаться, что человек несется по воздуху. Трудным номером была «прогулка» по наискось натянутому канату. Ее хорошо иллюстрирует бронзовая медаль, выбитая в память празднества, устроенного в честь императора Каракаллы в Кизике, цветущем малоазийском городе, в 212 г. н. э. Кизик славился своими отчаянно смелыми и очень искусными канатоходцами. Тогдашние праздники обычно не обходились без мимов и без цирковых (в нашем понимании этого слова) представлений. Для канатоходцев устроили такое сооружение: соединили под острым углом три мачты и наверху укрепили большую вазу с пальмовыми ветвями. От верхушки мачт косо шел туго натянутый канат, акробат с.136 поднимается, держа в руке какой-то предмет, слишком короткий, чтобы служить палочкой для балансирования; вероятнее, это факел. Подойдя к вазе, он останавливается и вынимает ветку. Теперь надо повернуться и спуститься вниз — это была наиболее трудная часть всего номера. В юридической литературе разбирался вопрос: если проданный раб-канатоходец, спускаясь вниз по канату, упал и сломал себе ногу, должен ли его прежний хозяин, обучивший раба этому номеру, уплатить убыток новому владельцу. Мнения юристов разделились.
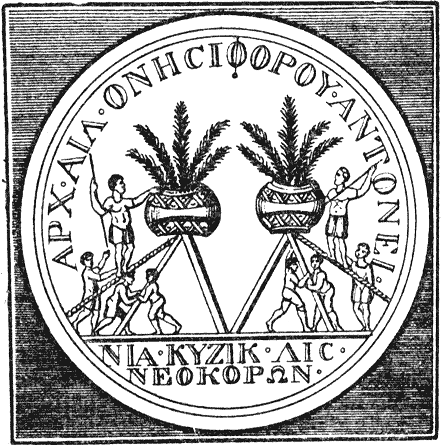
Хождение по канату. (Медальон из Кизика).
C. Bottiger. Kline Schriften, Bd. III, S. 125. |
Ни один из наших источников не говорит, на какой высоте натягивался канат, но надо думать, что на значительной. «Если ты увидишь канатоходца, тебе станет страшно», — писал Апулей. «Душу зрителя повергает в смятение опасность; осмелившись идти легким шагом по натянутому канату без всякой ограды, человек уверенно шагает, но, думая о пути к небу, оступается и, сам едва держась, держит в страхе за себя весь народ», — эти стихи Манилия хорошо передают волнение зрителей. О таком же страхе говорит и Плиний Младший. На одном представлении, данном в присутствии Марка Аврелия, упали мальчики-канатоходцы, и по приказу императора под канатами с этих пор стали расстилать тюфяки (позднее тюфяков не клали, а натягивали сеть).
Италийские акробаты показывали разные номера: стояли на голове, ходили на руках, кувыркались в воздухе или среди мечей, делали «мост». Были мастера, бегавшие и танцевавшие на ходулях, но искусство это, более безопасное, чем хождение по канату, большого волнения у зрителей не вызывало и особой популярностью, видимо, не пользовалось: о ходулях вспоминают редко. Очень любимы были петавристарии; имя это постепенно превратилось в обозначение всяких акробатов и жонглеров. с.137 Происходит оно от слова «петавр», которым первоначально назывался какой-то прибор, которым пользовались акробаты для своих представлений; позднее оно стало, по-видимому, общим наименованием всяческой акробатической снасти. Петавристарии, пришедшие увеселять Тримальхиона и его гостей, принесли с собой лестницу, обручи и амфору и показали три номера: здоровенный силач поднял лестницу, по которой взбежал мальчик; очутившись на верхней ступеньке, он запел песенку и начал в такт ей танцевать; затем прыгал сквозь горящие обручи и носил в зубах амфору. Когда над обедающими раскрылся потолок, гости решили, что сверху к ним сейчас спустится петавристарий. Марциал говорит об «узких тропинках» петавра, а Ювенал — о «телах, бросаемых петавром». Два акробата показывают свое искусство на петавре: один поднимается вверх, другой опускается вниз. Нечего, конечно, и думать о качелях; эта детская забава не для мастера-акробата. Вспомним колесо и «узкие тропинки» Марциала. Нельзя ли предположить, что петавр иногда представлял собой колесо, надетое на длинную качающуюся доску; в его широкий двойной обод горизонтально вставляли узкие спицы — ступеньки, а устанавливали это колесо так, как сейчас у нас на детских площадках вращающиеся барабаны: колесо кружилось, по спицам бежало два человека, и как раз в то мгновение, когда акробат оказывался на самом верху колеса, он спрыгивал на доску и с нее, как с трамплина, прыгал на подвешенную вблизи трапецию.
Иоанн Златоуст в проповеди, обращенной к его неуемно жадной до удовольствий пастве, перечисляет некоторые акробатические и жонглерские номера: человек сворачивается клубком и катается по арене в виде живого шара; подбрасывает в воздух большие острые ножи и всякий раз ловит их за рукоятки; неподвижно держит на лбу тяжелую штангу, на верху которой борются двое мальчиков. О таком же номере вспоминает Марциал: «замечательный Масклион» держит на лбу шест, на верху которого покачиваются тяжести; ему приходится этим шестом балансировать, удерживая его в равновесии.
Излюбленной игрой римлян была игра в мяч. Мячи были разные: и маленькие, плотно набитые перьями, и большие кожаные, вроде наших футбольных, надутые воздухом, Играли в мяч по-разному: целыми партиями по с.138 несколько человек в каждой; играли вдвоем и втроем. Была игра, в которой надо было действовать обеими руками: одной хватать брошенный мяч, а другой бросать свой. Сенека, вздыхавший о том, что эта забава заставляет людей попусту тратить драгоценное время, был сам неплохим игроком и превосходно знал и терминологию игроков, и все приемы игры в мяч. Италийские жонглеры превратили ее в такое чудо ловкости, которое потрясало всех зрителей: строгого Квинтилиана не меньше, чем легкомысленного Марциала. Жонглер ловил мяч не руками, а всем телом. «Словно по всему телу ходят у него руки, чтобы ловить множество мячей и вести игру самому с собой, — писал поэт Манилий, современник Августа. — Он словно обучил их, и они слушаются его приказа». Почти то же самое говорит Квинтилиан: «Мячи сами возвращаются им в руки и летят, куда им приказано». Мастер гордился своим искусством: в надгробной надписи императорского отпущенника Элия Секунда сказано, что он был «самым выдающимся игроком в мяч». На одном древнем саркофаге из Мантуи изображен жонглер, орудующий сразу семью мячами. Можно было еще усложнить эту игру: Агафин у Марциала бросает не мячи, а круглый щит; тот «следует за ним и возвращается по воздуху, садится на ногу, на спину, на голову, на ногти пальцев». Зрелище могло привести в восхищение: жонглер путем долгой выучки добивался того, что каждый мускул тела повиноваться ему так же, как повинуется инструмент музыканту; великолепно слаженная мускульная машина приходила в движение: жонглер кидал мячи в разных направлениях, точно учитывал, куда и через какое число секунд должен он кинуться, чтобы поймать один, другой, третий мяч, и подхватывал их не руками, а, говоря словами Марциала, «ногами, спиной, головой». Стоило посмотреть: казалось, что мячи, действительно, повинуются словам искусника и слушаются его приказаний. Трудность в жонглировании мячами еще увеличивалась, если жонглер играл стеклянными мечами. Первым, кто ввел их в обиход игры, был некий Урс, искусство которого, по утверждению его надгробной надписи, «народ восхвалял громкими криками».
В одном ряду с акробатами и жонглерами стоят фокусники. Даже такие серьезные люди, как Сенека, с удовольствием смотрели на их «обманы». Оборудование, которым с.139 они пользовались для этих «обманов», было очень простое: несколько блюдечек или стаканчиков и несколько маленьких круглых камешков. Описание фокуса с этими камешками сделано греческим писателем Алкифроном (III в. н. э.), но техника фокуса вряд ли изменилась с того времени, когда этим же фокусом любовался Сенека. У Алкифрона о нем рассказывает в письме приятелю крестьянин, привезший продавать в город винные ягоды. Покончив с делами, он пошел поразвлечься в театр. Что он там видел, он как следует не может вспомнить, но одно зрелище так его потрясло, что он до сих пор не может опомниться: вышел человек, поставил перед собой трехногий стол, расставил на нем три мисочки и под каждую положил — все это видели — по беленькому круглому камешку; и вдруг все они очутились под одной мисочкой, потом исчезли и оказались во рту у этого человека; он их выплюнул, затем подозвал из зрителей тех, кто стоял к нему поближе, и стал вынимать эти камешки у одного из носу, у другого из уха, у третьего из головы; только он их взял в руки, как они вновь исчезли. Крестьянин был совершенно потрясен: «Ну и ворюга! Только бы он не заявился ко мне во двор, а то пиши пропало все, что есть во дворе и в доме». К числу таких же ловких фокусов относится и выдыхание огня. Им воспользовался один из предводителей восставших сицилийских рабов (II в. до н. э.), сириец Эвн, чтобы убедить сотоварищей в своей близости к божеству. «Во время его речи, — говорит римский историк Флор, — изо рта у него вылетало пламя». Для этого фокуса он пользовался пустым орехом, который был просверлен с обоих концов и наполнен тлеющим веществом. Положив его в рот и дуя в него то сильнее, то слабее, Эвн и выдыхал то искры, то пламя. (Насколько этот трюк действовал на суеверную толпу, можно видеть из того, что предводитель восстания, вспыхнувшего в Иудее при императоре Адриане, Бар Кохба выдавал себя за Мессию и в подтверждение этого совершал «чудо»: дышал огнем. Для этого брался шарик из тлеющей пакли, хорошо обмотанный льном).
Были среди фокусников и шпагоглотатели. Вот что рассказывает о таком искуснике один из героев Апулея: «Я собственными глазами видел, как фокусник глотал острием вниз преострейший кавалерийский меч. Вслед за тем он же за несколько грошей охотничье копье с.140 смертоносным концом воткнул себе в кишки. И вот на окованное железом древко перевернутого копья, из горла фокусника торчавшего, на самый конец его вскочил миловидный отрок и, к удивлению нас, всех присутствовавших, стал извиваться в пляске словно был без костей и без жил».
Жонглеров, акробатов, фокусников — весь этот странствующий народ часто сопровождали дрессированные животные.
Мы говорили уже о дрессированных слонах и львах. Завести этой нищей братии слона или льва было, конечно, не по средствам, но к их услугам были такие животные, как собаки, свиньи, даже обезьяны. Вороны хорошо выучивались говорить. Козлов приучали ходить в упряжке и выучивали и более трудному; был козел, ходивший по канату. Обезьян в Италии хорошо знали еще века за два до н. э. Понятливое животное быстро выучивалось разным трюкам: источники наши рассказывают, что обезьяны танцевали, дудели на флейте, перебирали, словно заправские кифаристы, струны кифары, ездили верхом, играли в шахматы. В процессии, совершаемой в честь Изиды, которую описал Апулей, «обезьяна в матерчатом колпаке и платье шафранового цвета, протягивая золотой кубок, изображала пастуха Ганимеда». Античные скоморохи, конечно, постарались обзавестись этим занятным животным, легко поддающимся выучке. На одной помпейской фреске изображена обезьяна в длинной тунике с откинутым капюшоном, которую держит за поводок мальчик и заставляет танцевать под щелканье бича. Трудно с уверенностью сказать, изображена ли здесь детская забава или это сценка уличного представления. Никаких сомнений не вызывает изображение на глиняном светильнике. Жонглер (о его профессии свидетельствуют два находящихся вверху обруча) занят обучением своих товарищей по работе: в руке он держит какой-то предмет (ломоть хлеба, лепешку или плод) и, улыбаясь, что-то говорит обезьяне, протянувшей к нему свою руку. С другой стороны стоит лестница, по которой уверенно взбирается небольшой песик. Он, видимо, уже преуспел в своем образовании и, как настоящий артист, сам наслаждается своим искусством: учитель, всецело занятый обезьяной, предоставил талантливого ученика самому себе. Собаки были неоценимыми помощниками и жонглеров, и акробатов: они взбегали по лестницам, прыгали сквозь обручи, подавали лапу, с.141 умирали. Плутарх рассказывает, что он видел в Риме собаку-актера, разыгрывавшую сцену наркотического отравления: только что весело бегавшая, она, съев что-то, отскакивала, делала, пошатываясь, несколько шагов по сцене, падала и вытягивалась, словно мертвая. Затем она начинала постепенно приходить в себя: поднимала голову, зевала, потягивалась, вставала, делала несколько неуверенных шагов, а потом бодрой трусцой убегала со сцены. Можно представить себе эффект этого зрелища. «Выступали» и свиньи. Они появлялись перед публикой в намордниках, с колокольчиками на шее и показывали какие-то «чудеса». К сожалению, никаких подробностей об этих «чудесах» не имеется.
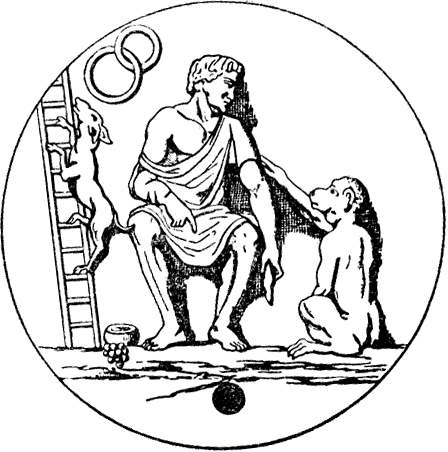
Жонглер со своими животными.
Daremberg. Saglio Diction des antiquités, t. I, fig. 45. |
Мы мало знаем о мимах-людях, но еще меньше о тех, кого можно объединить одним названием скоморохов. Известно только, что они бродили по городам и селам, составляли между собой небольшие общества, в которые входили и акробаты, и жонглеры, и фокусники; с детства должны были обучаться своему нелегкому ремеслу и всю жизнь, за редкими исключениями, перебивались со дня на день. Древние писатели говорят об их мастерстве, художники делают его темой своих произведений, но жизнью этих людей, доставлявших столько удовольствия и развлечения и всем возрастам, и всем слоям общества, никто не интересовался. Жонглеры, фокусники, акробаты были народом странствующим, перебиравшимся в поисках заработка от места к месту. Они появлялись на праздниках, на ярмарках, на больших базарах. Иногда они показывают свои номера на сцене городского театра, но часто выступают просто на площади селения или маленького городка, где сами наспех сколачивают легкие подмостки. Приход этих искусников с.142 был праздником для всей местной детворы, да и взрослые с удовольствием глядели на чудеса ловкости и силы, которые им показывали эти ладно скроенные, веселые люди, забавными шутками приглашавшие их посмотреть зрелище, которое они, конечно, объявляли несравненным и никогда не виданным. Номера следовали один за другим. Силач, Геркулес труппы, приглашал ребят подойти к себе и поднимал вверх сразу семь-восемь уже больших пареньков3; несколько эквилибристов «быстро сплетались» в пирамиду, на вершине которой балансировал мальчик, — «пирамида» недолго стояла, а затем все легко спрыгивали на землю и быстро шли на руках кругом по подмосткам; фокусник выпускал изо рта попеременно несколько струй вина и молока; юноша с помощью высокого шеста несколько раз не перепрыгивал, а просто перелетал с одного конца площади на другой; жонглер показывал свое искусство, бросая и ловя разноцветные мячи. Небольшой, серьезного вида пес плавно кружился по подмосткам под веселую мелодию, которую на дудочке наигрывал жонглер-учитель, а большой черный ворон отчетливо выговаривал: «Будьте счастливы, уважаемые граждане». И поглядеть все эти чудеса можно было буквально за грош!
ПРИМЕЧАНИЯ